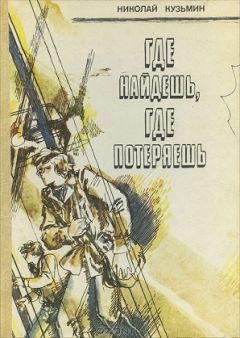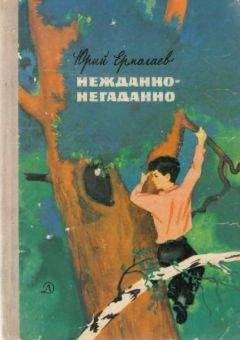Недалеко от дома был обширный сад, весь заснеженный, промерзший. Ромка перелез через забор, галопом устремился в темную, по-ночному вымершую глубь. Так бегал он туда-сюда по аллеям до тех пор, пока не взмок от обильного пота. Затем, распаренный, задыхающийся, скинул с себя пальто, пиджак и завалился на ледяную скамью.
Утром у Ромки обнаружилась великолепная температура, которая превысила своим значением синяки, спасла от неприятного дознания в какой-то мере дома и полностью — на работе. Никто не заподозрил расчета в совпадении: ни врач, ни родители, ни Наташа. Она была допущена к больному лишь неделю спустя, когда многоцветно-изменчивая раскраска физиономии, пройдя все фазы, осталась легкой желтизной да синью под глазами — как естественный результат общего недомогания.
Тем не менее заводить тайну от Наташи, кривить душой даже в таком сугубо личном деле Ромка не хотел. Он рассказал ей все подчистую, и девушка, хоть с упреками в бесшабашности, но солидарно пережила историю, вознаградив своего героя еще одним признанием в любви, а также поцелуями тех обожаемых черточек лица, по которым прогулялся свирепый кулак. Однако, несмотря на обоюдное удовлетворение, дальше беседа пошла кувырком, Наташа милосердным тоном, как и подобает говорить с болящими, обронила невзначай такую фразу:
— А знаешь, во всем этом есть утешение, урок.
— Вот именно! — неваляшкой привскочил Ромка с постели. — Я как раз собирался тебе объяснить. Когда я вышел из того двора, огляделся кругом, со мной что-то случилось. Я даже не понял сразу. А тут ворочался шесть дней, обмозговал. Конечно, это не открытие. Ведь сколько раз я решал не вмешиваться в бессовестность посторонних — и вмешивался. Сколько постановлял себе: не проходи мимо! — а потом проходил… Ну и что получалось? В одном случае тумаки, в другом — угрызения совести. Как же тут быть?
— Накрыться одеялом, — перебила Наташа, — дует от окна.
Охваченный искренностью, Ромка не обратил внимания на ироничную реплику, позволил себя укутать, продолжил речь из одеяльного кокона:
— А точно! Урок не прошел даром. Они вколотили в меня убеждение. Теперь я знаю: могло бы быть так, что никто меня пальцем не тронул бы. И на работе не возникла бы свара, если б я не колебался. И еще…
— Не совал бы свой курносый нос куда не надо, — подсказала Наташа с покровительственной улыбкой.
— Постой! — Ромка не сразу понял. — Ты это о чем?
— О твоем печальном уроке.
— Ну и что?
— А то. Надеюсь, ты угомонишься. Хватит налетать на ветряные мельницы и прошибать головой каменные стены.
— Да нет! — Ромка нетерпеливо, и опять-таки не принимая Наташиной шутливости, затряс вихрами. — Да нет же, совсем не то! Я как раз о противоположном толкую. Ты слушай! Польза урока такая: не будь посторонним, не будь клопом, не прячься в щель. Понимаешь? Истина старая, но теперь я прочувствовал, уразумел. Если б тогда, когда меня облапошили с книгой, я не махнул рукой, то и драки наверняка не случилось бы. Ведь чем они сильны, подонки? Тем, что всегда активны по-своему. И побеждают они потому, что их не трогают, отмахиваются от них. Ты сравнивала меня с пружиной? Допустим. И верно: пружина отталкивает лишь при воздействии на нее. При сильном воздействии, хорошо. Ну, а если чуть-чуть? Слегка надавили…
— Ну да, — уже с горечью усмехнулась Наташа, — как те двое на тебя…
— Обожди, — Ромка ее не слушал. — Все мы реагируем на крупную подлость и не желаем связываться по пустякам. Они, все эти жулики, хулиганы, разные подонки, они учитывают, знают, как надо действовать, чтоб не нарваться на отпор. Сегодня тихой сапой заняли одну ступеньку, завтра другую, и глядь — от них уже деваться некуда!
— Не преувеличивай, Ромка.
— Да зачем, — он вошел в раж. — Нисколько! Ты только вдумайся, присмотрись. Существуют два лагеря, условно — добро и ало. Между ними постоянная война, но почему-то всегда атакует одно зло, а добро лишь обороняется. Согласна? В лучшем случае добро отбивает атаки, пресекает продвижение зла. Я промолчал потерю сорока рублей. Я молчал на работе. И что же? С отвоеванных позиций всякая шваль ломится дальше! Разве не так?
Наташа премудро вздохнула, поглядела на Ромку с высоты восемнадцатилетнего девичьего опыта, который обычно намного опережает мальчишеский, соответствующий по годам.
— Да укутайся же, Ромка! И во-первых, это в сказках ясно, где зло, а где добро. Про тех аферистов я не говорю, хотя — себе дороже связываться с ними. А на твоей работе… Ты ведь сам признавал, что мастер старается ради людей. Признавал?
— Наташа, — сказал он трагическим тоном. — Наташа! Когда-то мы поклялись быть честными до конца дней! Неужели забыла?
Клятва действительно имела место в их биографии и «конец дней» упоминался, хотя они не представляли его ни малейшим образом в применении к себе. А прозвучала она по случаю прекращения трехмесячного раздора. В тот вечер девушка поняла окончательно, что не может существовать на свете без этого курносого бунтаря. Он, оказалось, тоже во всех закоулках души изведал свои чувства к ней, тоже был счастлив благополучным финалом. И чтобы впредь не делать глупостей, то есть не ссориться ни под каким предлогом, они произнесли тогда много пылких клятв, среди которых была и эта: о пожизненной честности.
— В чем ты меня обвиняешь? — потускнев, спросила теперь Наташа. — Я соврала, насплетничала, укрыла бандита? Чем я нечестна? По-твоему, подставлять бока и лоб колотушкам, вылетать с работы, как твой отец, — только это честность? Да если на то пошло…
Он откинулся на подушки, натянул одеяло до глаз. Все, разговор продолжаться не может, это ясно. Обидно, Наташа не поняла… Нет, просто он сам не нашел верных слов, ударился в путаную философию. А надо не рассказывать, надо действовать, вот и все! Тогда и Наташа усвоит, и другие люди. Поступки не нуждаются в словах, убеждают своим результатом. Точно! Действовать, действовать, действовать, пока цел!
— Ромка, ты что? Ромка, тебе плохо? — встревожилась Наташа.
Он молчал. Он кусал губы и шумно, яростно дышал…
Действовать в каком-то особом смысле сразу по выходе на работу Ромке не потребовалось. Первым же утром Фролов отшиб охоту к вражде, обезоружил добротой.
— Роман Андреевич! — хорошо улыбаясь, заговорил он. — Выздоровел, Роман Андреевич? Ну, молодчага! Наконец-то… А мы тут за тебя переволновались: в городе эпидемия, да… А посмотри, чего я тебе приготовил. Во, пятнадцать контактов — один только заказ! И еще горлянки по двести тридцать четыре штуки. Надо же нагнать упущенное. По бюллетеню тебе пока гроши.
Ромка, хоть и поблагодарил за отменную работу, но с натугой: что-то ему не нравилось в такой уступчивости Фролова. Однако никаких подвохов, никакого прижима со стороны мастера не последовало и потом в течение девяти дней до конца месяца. В пору было вообразить, что консервативный руководитель спасовал, решил не препятствовать юношеской инициативе, нашел компромиссный и не касающийся Ромки исход. Относя эту перемену за счет личной неколебимости и правоты, Ромка уже начал лелеять проекты агрессии (не все злу нападать!), которая, по замыслу, и Виктора и других копировщиков должна была вовлечь в самоотверженную отдачу фабрике — без долгих перекуров, без дураков. Однако от замысла до свершения большая дистанция…
Шли первые, затишные дни месяца — с обертками вафель, печенья, с конфетными коробками на две краски и тому подобной дешевизной. Радоваться было нечему, но и роптать Ромка не собирался. Как мусорщик, он греб всю эту отринутую квалифицированными копировщиками ерунду, заполнял ею обедненные смены, чтоб не скучать в ожидании лучших заказов, не слоняться по этажам зря. И вдруг досталась шикарная работа: малюсенькая заклеечка к папиросной коробке, табачный листок трех цветов, тысяча восемьсот копировок на одной только пленке. Такой завидный наряд Ромка впервые отхватил.
— Смотри, — сопроводил Фролов свою доброту настойчивым упреждением, — будь внимателен как никогда. Здесь не десяток передвижек, не сотня, как понимаешь. Одну-единственную влепишь криво — день работы насмарку. Так что…
— Понял, понял, — сдержанно сказал Ромка, хотя готов был подпрыгнуть до потолка. — За это не беспокойтесь. Переделаю, если что.
В их комнате Виктор посмотрел задание, посоветовал без зависти своему бывшему ученику:
— Изготовь цепочки, Роман Андреевич. Знаешь? Оно верней будет и побыстрее. Попробуй, хороший способ, испытай сам.
Цепочка снимков и правда имела большое преимущество перед обычным способом размножения. Вместо того чтобы двигать фотоколпак тысячу восемьсот раз, штампуя с одиночного негатива, можно было сделать промежуточный, состоящий из тридцати кадров ряд, и тогда что ни вспышка — три десятка копий, как одна.