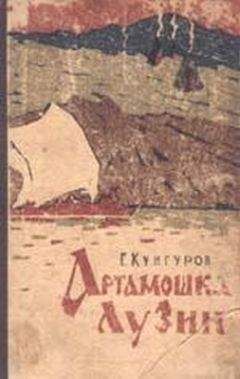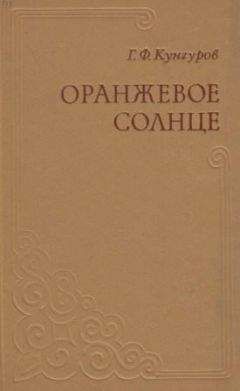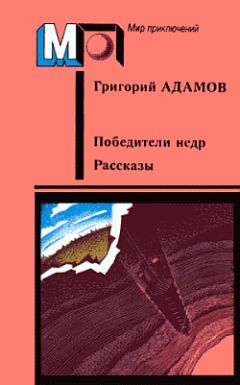— Да но-о?
— Да-а!
— Бабоньки!..
— Афоня-юродивый в той звезде тайные знаки разглядел, — прошептала таинственно Марфа Сутулая.
— Какие? — спросили несколько приглушенных бабьих голосов.
— Все понял, все разгадал! Божий человек — ясновидец!
— Говори, касатка, говори! — шипели бабы.
Они склонили головы, затаили дыхание, а Марфа, неторопливо растягивая слова, говорила:
— Быть голоду! И звезда та на погибель. Повелел государь все хлебные, соляные, рыбные и прочие запасы у купцов силком отобрать, запереть накрепко.
— А народ? Лютая смерть? — заволновались бабы.
— Народ… — растянула Марфа. — О народе Афоня-юродивый такое говорил — сказать страшусь. — Она стала оглядываться с опаской по сторонам.
Бабы наступали.
— Наушников боюсь, не миновать мне воеводского палача. Тесней, бабоньки, лепитесь, тесней! Слушайте тайное и про себя то держите…
Бабы сбились в тесный круг. Марфа опять огляделась по сторонам:
— Афоня-юродивый так сказал: «Червь оглодает народишко начисто».
— Ай! — всхлипнула какая-то баба.
— Тише! — зашипели на нее со всех сторон.
Марфа продолжала:
— Государь-батюшка махнул, махнул на все четыре сторонушки: «Людишек у меня — что мух на навозе. И не справиться мне и не управиться мне. Многое-многое у меня народу множество, всех не накормить, не напоить: еды столь и на земле не сыщется. А тут от бога весть — не упадет ни росинки дождя десять лет. Мор, голод, смерть»…
Бабы всхлипывали, терли глаза кулаками. Вперед вырвалась вдова Рязаниха:
— Бабы, смерть никому не мила! Скотину и ту бог пасет. Надобно государю-батюшке грамоту отписать. Сыскать мужика исправного умом и ногами быстрого, чтоб тот мужик дошел до царя и, упав на колени, просил милости, пощады да спасения…
— До государя далече, — угрюмо опустили головы бабы.
— Государь в Москве сидит, а Москва — на самом краю света.
— Аль в гроб ложиться? — заревела Рязаниха.
В это время прошел рядом мужик в высокой шапке и новенькой поддевке. Бабы умолкли.
Мужик скосил глаза, подозрительно посмотрел на баб, остановился. Бабы, как вспугнутые воробьи, разлетелись в разные стороны. Мужик зашагал прочь.
Ярмарка замирала, многие купцы закрыли лавки, остатки товара волокли к берегу, грузили в лодки. Но их хватали приказные людишки, товары отбирали, а к приказчику с жалобами не допускали.
Купцы собрались на сход. Вышел на середину купец Тарасов. Богател он рыбным торгом.
— Приказчик Христофор Кафтырев обобрал нас как есть дочиста…
— Раздел! — перебил его купец Пронин.
— Доподлинно раздел! — понеслись голоса.
— Подарки дорогие принял, — продолжал Тарасов, — почести взял, пошлину непомерную собрал, а все орет: «Мало!» — и угрожает нам, купцам. Как так?
Выбрали купцы старейших и почтеннейших посланцев и отправили их к приказчику уговаривать его сбавить пошлины. Пошли выборные купцы, понесли подарки дорогие: деньги, соболей, лисиц, бочку меду, воску, кусок товара красного и многое другое.
Издали увидел приказчик приближение купцов, приказал распахнуть широкие ворота острога. Принял гостей с честью, обласкал, подарки принял. Чаркой водки обнес и даже, к удивлению всех, облобызал купца Тарасова. От умиления купец прослезился, все склонили низко головы, достав бородами до полу, и, довольные, ушли. Так уладили свои дела купцы и мирно стали отплывать, подсчитывая прибыли.
Приказчик тоже считал по ночам свои доходы, небывало большие, радовался.
…А тем временем в стане Филимон вел крутой разговор с Никитой Седым. Плакался Никита на тяжкую долю:
— Пухнет народишко с голодухи и сил не имеет спихнуть приказчика лиходея и вора.
Филимон молчал, шумно дышал, сходились у переносья густые брови. Никита Седой горячился:
— До ярмарки амбары лопались от зерна, под крышу оно подпирало. Ходил я с народом за милостью. Выслал приказчик казаков с саблями, казаки народ разогнали, многих покалечили…
— Вот те и милость! А велика ль сила в остроге? — спросил Филимон, пронизывая Никиту пытливыми глазами.
— Велика! Острог — крепость неприступная, сидит в ней приказчик за стеной высокой, и терпит от него народ разорение и лютости. Палач топора из рук не выпускает.
Никита склонился к уху Филимона, дыханием горячим обжег:
— О тебе, Филимон, и о твоей вольнице прослышал приказчик от наушников и отписал государям на Москву. В той грамоте всяко тебя поносил и потешался. «Я, — говорит, — верный государев слуга, со мной этому голышу, атаману рваному, Филимошке, не тягаться. Изловлю я его, беспременно изловлю, забью в железо. Известно мне: Филимошка и кузнец и плотник, заставлю его новенькую виселицу поставить, крепкий железный крюк сковать, чтоб не сорвалась тугая петля. На ней и повешу воровского атамана».
Скулы Филимона заходили, забегали глаза, блеснули жгучей искрой. Заскрежетал он зубами так, что даже у Никиты мороз по спине пробежал.
— Не столь ты грозен, государев приказчик Христофор Кафтырев! Коль задумал мне подарочек — два столба с перекладиной да тугую петельку на крепком крюке, я смастерю тебе отдарочек — диковинную вещицу, век будешь помнить!
Филимон к ватаге вышел, зычным голосом ее окликнул:
— Атаманы-молодцы, острогу Братскому не стоять — повалим! Приказчику государеву, мучителю Христофору Кафтыреву, не жить — убьем!
В ответ ватага всполошилась, разбуянилась:
— Не стоять!
— Повалим!
— Лиходея-приказчика спихнем, ногами раздавим!
Слышался Артамошкин голос:
— Воля!
К ночи ватага Филимона стала пополняться. Приходили крестьяне пашенные, босяки острожные, беглецы и прочий гулявый и бездомный народ. Шли кто с чем мог: с пищалями, вилами, рогатинами, кольями, а кто и просто с дубьем. Рать собралась не малая. Трясли мужики широкими бородами, скалили злобно зубы, рвались в неравный бой с ненавистным острогом.
Рано утром ватага выступила. Вмиг повалили и разнесли по бревешкам несколько лавок, разгромили казенную избу — ту, что стояла на площади.
Покатилась ватага горячей лавиной на острог. Ощетинился острог, принял бунтовщиков огнем из пищалей, тучей стрел и градом камней. Бунтовщики то отступали, то вновь бешено бросались на острожные стены, падая и истекая кровью.
Чалык стоял за раскидистой сосной и пускал меткие стрелы. Артамошка палил из пищали.
Целую неделю безуспешно нападала ватага на острог, много ватажников полегло замертво, много было поранено, покалечено, а острог стоял серой неприступной скалой, и, казалось, никакая сила не могла его свалить. Отступила ватага, разбросалась лагерем поодаль. Затревожился Филимон. «Крепок острог! Велика острожная сила!»
Среди ватаги шел ропот: на исходе были запасы, немного осталось пороху и свинца, да и живая сила поубавилась.
На рассвете ватажники вновь ринулись на острог. Хотел Филимон взять его приступом, коль не удастся взять — сжечь. Вновь отбился острог, и вновь понесли ватажники большой урон. Малодушные тут же разбежались неведомо куда.
Собрал Филимон круг. Зло смотрели на него ватажники. Взошел он на высокий помост, шапку снял:
— Люди вольные! Пусты наши хлебные мешки. Как жить будем? Нет у нас ни пороху, ни свинца. Как воевать будем? Прогневили мы царя и бога. Как спастись от лютой казни нам? Может, разбредемся по лесам?
— Ого-го-го! — загудела толпа. — Обломали зубы да хвост поджали! Негоже, атаман!
Вылетел вперед Никита Седой, багровый от злости, сумрачно огляделся:
— Не дело сказал, атаман! Нам ли, вольным, на плаху голову класть! Нам ли, вольным, слезы пускать! То негоже!
Ватажники бушевали:
— Острог крепок! Зубов не хватит!
— Острог — сила!
— Ослабели люди!
— Приказчик всех побьет!
«Мала сила, — подумал Филимон, — мала!» И сам устыдился своего малодушия. Вскинул голову, в усы улыбнулся, в глазах искры вспыхнули. Шагнул он, грозный, неустрашимый, на край помоста, чтоб слышны были его слова:
— Не отдадим волю!
— Не отдадим! — подхватила толпа и заколыхалась, как волны в бурю.
Филимон горячился, далеко слышался его голос:
— Вокруг нас силы людские превеликие: крестьяне окрестные, юрты бурят, стойбища тунгусов. У всех горькая доля, всем приказчик — вор и лиходей! Все пойдут под наше знамя!
— Дело говоришь! Дело!
— Говори, Филимон! За сердце берет!
— Шли лазутчиков! Шли умельцев! Пусть скликают людишек лесных!
…Разослал Филимон людей на все четыре стороны. А сам остался держать острог в осаде малой.
Никита Седой вызвался стойбища эвенков всполошить, поднять эвенков на войну с лютым казнителем — приказчиком. Взял Никита с собой лазутчиком Чалыка. Лучшего и не сыщешь: и глазом остер и умом не обижен, а главное речи эвенкийские разумеет.