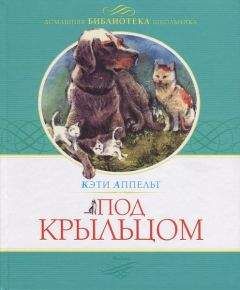И вдруг совсем едва внятное рыдание раздается в дальнем углу дортуара. Это плачет Маша Пронская. Её отец тоже заведует пограничным отрядом таможенников и, наверное, при объявлении войны, первым пойдет в дело. Волнение Маши передается и остальным. Теперь всхлипывания учащаются. То в одном, то в другом уголке длинной, похожей на казарму, комнаты раздаются тихие заглушенные рыдания.
Кружки девушек сближаются теснее. Крепче прижимаются они одна к другой… Прильнув плечом к плечу подруги, тихо, беззвучно плачут они. Нет ни одной из здесь находящихся воспитанниц, y которой не было бы отца, брата или родственника, служащего на военной службе. Даже самые благоразумные и сдержанные повесили сейчас головы. Что-то гнетущее, тяжелое, как тяжелая, свинцовая, предгрозовая туча повисло над всеми этими печально поникшими головками. Разрывались девичьи сердечки, в предчувствии возможных грядущих бедствий. Хотелось каждому из этих юных, затуманенных печалью, существ безудержно заплакать, зарыдать навзрыд, слабо, жалобно, по-детски.
Уже Верочка Иванова, прильнув к своей подруге Нале, задыхается от беззвучных рыданий, a маленькая, жизнерадостная блондинка Парфенова, которая только что собиралась бойкотировать немку Кранц, теперь плачет трогательно и беспомощно, по-детски, тиская мокрыми пальцами смятый в комок носовой платочек. Никто уже не хочет больше слушать друг друга. Все отдались захватившему их порыву. Лишь немногие, сохранившие спокойствие, шепотом утешают подруг, но и эти готовы заразиться всеобщим угнетенным настроением, разрядившимся горькими слезами.
И вот, заглушая неожиданно сразу все эти всхлипывания, весь этот плач, низким грудным голосом заговорила девушка с синими глазами и смуглым, нерусским южным лицом. Когда поднялась со своей постели Милица Петрович; как успела она незаметно приблизиться к самой большой группе воспитанниц, собравшихся y кровати Нали Стремляновой, решительно никто не успел заметить.
И только, когда синие, сейчас заплаканные, с припухшими веками, глаза Милицы обвели собравшихся в кружок девушек, a глубокий, низкий, грудной голос её прозвучал над всеми этими склоненными головками, многие из них опомнились и подняли на говорившую влажные от слез глаза..
— Ты? Миля? Зачем ты встала? Тебе лучше? — полетели отовсюду вопросы.
— Встала затем, чтобы успокоить вас, милые вы мои, — зазвучал снова бархатистыми нотками глубокий голос Милицы, — чтобы сказать вам, что преждевременны ваши слезы. Подтвердить вам то, что я с детских лет слышала от моего отца, старого боевого ветерана, от брата Танасио, офицера и удальца. Русский народ — славный народ. Полки ваши многочисленны, войска так сильны, что никакие австрийцы и немцы вам не могут быть страшны. И ваш великодушный государь двинет эти полки на защиту нашего маленького славянского народа… Я верю, что при помощи русского войска мы победим сильнейшего врага. И мне стыдно сейчас, что я плакала, как маленькая девочка; мне было страшно за Белград, за тато, за милую мамочку, за Иоле, моего любимца… Ведь в них, в наш город направлены теперь австрийские снаряды. Ведь каждый из белградцев, их жены и дети находятся в смертельной опасности сейчас… Но отчаянием и слезами все равно ничему не поможешь… Надо твердо уповать на победу и молиться о ниспослании её. Да, плакать не время… Если бы наш народ был таким же многочисленным, могущественным и сильным, как вы — русские, разве хоть капля сомнения или отчаяния могли бы проникнуть в мою душу, когда я узнала о войне наших с этой жестокой и кровожадной Австрией? — закончила вопросительно свою горячую речь Милица, и обвела теснившихся вокруг неё подруг горячим, сверкающим взглядом.
Её смуглое лицо раскраснелось. Следы недавнего отчаяния и слез уже давно исчезли с него. Их заменила непоколебимая уверенность, сквозившая теперь в каждой черточке этого юного, воодушевленного личика, горячая уверенность в чистоту правого дела, в победу…
И это настроение молоденькой сербки передалась невольно и её юным подругам. Лица девушек прояснились; носовые платки постепенно исчезли и вновь загоревшиеся оживлением синие, серые, карие и черные глазки устремились в смуглое лицо Милицы.
— Она права, млада сербка права, mesdames, — первая подняла голос Наля Стремлянова, — рано еще объявлена, a объявят ее — так разве же не можем мы быть уверены в несомненной победе наших? Ведь, защищая обиженных братьев-славян, поднимет оружие наша милая родина, голубушка-Россия. Так говорили мне мои братья, мой отец, все старшие. Так неужели же Господь не поможет нам победить зазнавшегося врага?
— Победят! Победят! Конечно! — вдохновенно подхватили кругом молодые голоса, — Господь Бог ниспошлет победу тем, кто обижен невинно, чье дело право и честно, иначе не может быть.
В тот же вечер, когда уснули ближайшие соседки по дортуару Милицы и мерное дыхание спящих воспитанниц наполнило тишину огромной спальни, молоденькая сербка вынула из ночного столика, хранившийся там y нее огарок свечи, и из пачки бумаг находящейся тут же, в шкатулке почтовый лист, конверт, дорожную чернильницу и ручку.
Несколькими минутами позже она уже писала при свете огарка под монотонное похрапывание соседок по дортуару, со сжатыми бровями и сосредоточенным лицом.
«Дорогая тетя Родайка!
Ты уже, конечно, знаешь то, что знает весь Петербург, вся Россия, что не замедлит вскоре узнать и вся Европа и весь большой мир. Австрия объявила войну нам — сербам и уже разбойнически напала на нашу дорогую родину. В газетах уже есть слух о бомбардировке Белграда. Что переживают там наши близкие, мы обе можем себе легко представить. И я, оторванная от семьи, находясь от неё так далеко, я не хочу в это тяжелое для нас всех время оставаться вдали от своих. Танасио и Иоле пойдут, конечно, сражаться на ряду с прочими нашими орлами-воинами, но бедный тато-калека и дорогая моя мамочка останутся без поддержки, одни. И я, как дочь их, горячо любящая своих родителей, должна находиться в это тяжелое время около них, поддерживать их бодрость, настроение, a также и ухаживать за нашими ранеными воинами. Я умею накладывать повязки, промывать раны, словом, смогу быть полезной по мере сил и надобности. По крайней мере, приложу к этому все усилия. И ты должна помочь мне осуществить мое желание, тетя Родайка. Ты должна приехать за мной и взять меня из института. Если ты скажешь, что я поеду домой, на родину, в Белград, начальство, конечно, меня не отпустит из страха перед возможной опасностью. Но, тетя Родайка, ты умная и чуткая и ты поймешь, что твоя Милица не сможет сидеть сложа руки здесь, в холе и довольстве, когда каждую минуту её близкие, дорогие её сердцу люди подвергаются смертельной опасности; когда, наконец, там в Белграде, каждая рабочая рука на счету, каждый человек, каждая сестра милосердия, не говоря уже о больших деятелях военного времени. И вот, я решила наравне с другими нашими сербскими девушками и женщинами оказать свою крохотную помощь героям-воинам. Приезжай же за мной, тетя Родайка, и увези меня отсюда; увези покамест к себе домой. Это, право же, не так трудно сделать. Каждая из нас, старшеклассниц, оставшихся на лето в институте, имеет право провести дома или y родственников две-три недели каникул. Воспользуйся этим, тетя Родайка, молю тебя, и, получив это письмо, тотчас же приезжай за любящей тебя твоей
Милицей».Госпожа Родайка Петрович, старая, почтенная, много повидавшая на своем веку женщина, лучше чем кто-либо другой, знала душу своей любимой племянницы Милицы. Знала и то, что с минуты объявления войны Австрией Сербии, молодая девушка не найдет себе ни минуты покоя, находясь вдали от родины и семьи. Знала, что Милица будет порываться всем существом своим ехать в Белград, где находились сейчас в такой опасности все близкие её сердцу; что, все равно, всякие занятия и ученье в институте вылетит y неё из головы и, что самое лучшее будет — это доставить возможность девушке проследовать на родину, где уже были вся её душа, все её мысли. Поэтому тетя Родайка и согласилась, скрепя сердце, на просьбу племянницы. Согласилась пойти на компромисс с собственной совестью и, скрыв от институтского начальства истинную причину отъезда Милицы на каникулы, рискнула взять ее к себе и от себя уже отправить девушку в дальний путь, на её родину, в Белград. Правда, сердце тети Родайки сжималось от страха за участь её любимицы. Старуха отлично сознавала, что не на радость отправит она туда свою Милицу, что пребывание в обстреливаемом тяжелыми австрийскими пушками городе, чрезвычайно опасно для жизни обитателей сербской столицы. Но, с другой стороны, сама глубокая патриотка, тетя Родайка понимала порыв племянницы, сочувствовала ей и не находила в себе силы отказать Милице в её просьбе.