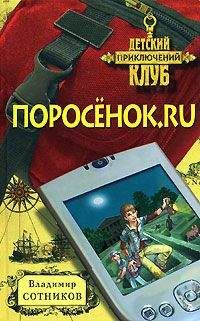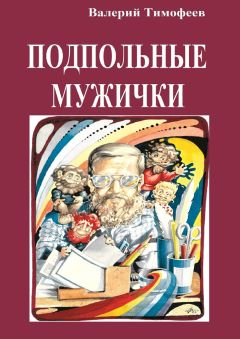Но грибы, как назло, больше не попадались, будто под землю спрятались. Митька уж и в чащобу ельника залезал, и на другой берег Естехина лога бегал — только зря вымок. Да что за черт такой!
— Поворотили назад!
Они вернулись туда, откуда начали. Но, кроме обрезанных корешков, разве что-то найдешь? Уж раз «мост» кончился, так новый за десять минут не вырастет. Митька, правда, рядом со своими же срезами откопал еще два груздочка. Но ведь два — не сотня. Положил в корзину, и не видно, что прибыло. Под елочкой выпутал из травы штук десять рыжиков — холодные, скользкие, как лягушки. От этих тоже прибытку немного.
Алик уж подбивал Митьку на волнушки и сыроеги. Этих, как поганок, невпроворот.
Но стоило ли за ними в такую даль плестись. Их под Полежаевом на угорах хоть лопатой греби!
Свернули в старую вырубку, затянутую березняком. Уж если и тут нету, то придется поворачивать оглобли домой. Ничего не поделаешь.
Но у Митьки теплилась надежда: должно же быть. Земля-то вон какая парная. На черничнике нету, так в березняке уродилось. Год на год не приходится. По одно лето груздь прорезался в ельнике, по другое — в березняке. А нынче-то, пожалуй, на березняк и смахивает: дожди же идут. В ельнике-то и без дождей сыро, а тут целую неделю беспрестанно лило, затопило землю, до грибницы воздуху не проникнуть, какие тут грузди.
От догадки Митька повеселел.
В березняке было просторнее, лес проглядывался далеко вперед.
— Ты иди туда, — Митька махнул рукой в сторону гари, — а я здесь поищу. В четыре-то глаза больше найдем.
Они шли по лесу и аукались.
Грузди попадались здесь чаще, но одиночные. Митька уж совсем было упал духом: неурожайный год.
— У тебя-то там как? — крикнул он Алику.
— Пло-о-хо, — отозвался Алик.
— И у меня пло-о-хо, — ответил Митька.
Эхо пронеслось по березняку и затихло.
Солнце уже выкатилось к зениту. Лес ожил от шума листвы, и кусты больше не обдавали Митьку дождем, когда он лез через них напролом.
— Попадает чего-нибудь? — нетерпеливо поинтересовался Митька.
Алик долго не отвечал, и Митька, испугавшись, что он на безгрибье убежал далеко, сложил руки рупором и закричал на весь лес:
— А-а-лик!
— Ну, чего тебе? — отозвался Алик из-за ближних кустов.
— Попадает чего-нибудь?
— Плохо.
— И у меня плохо.
Митька внутренне уже решил возвращаться и пошел на сближение с Аликом. Он выскочил к гари и обомлел: поляна была усеяна свежими корешками груздей. Кого это тут носило? Митька присел на корточки, повертел перед глазами один корень, другой — недавний срез: зеленое молоко не успело обсохнуть.
— Алик! — удрученным голосом позвал он товарища, всматриваясь в кусты, за которыми Алик только что трещал валежником.
Кусты тянулись к логу, и за ними никого не было.
— А-а-лик, а-а-у! — крикнул Митька погромче.
— Ау-у! — отозвался Алик издали.
«Ты смотри, куда умахал», — подумал Митька и заторопился на голос.
По пути попалось еще несколько груздей-одиночек. Митька на ходу очистил их от налипшей хвои и листьев и снова наткнулся на следы «моста».
И опять корешки были свежие.
«Уж не Алька ли обломал? — подумал он и стыдливо отогнал неприятную мысль: — Ну, или не позвал бы…»
— А-а-лик!
Алик вывалился из кустов, тяжело избоченившись. Корзина у него доверху была набита груздями.
— У тебя-то как? — спросил Алик, ревниво заглядывая через плечо Митьки.
— Я же кричал тебе, плохо.
Алик поставил корзину на землю и, упершись руками в поясницу, прогнулся, разминая затекшую спину.
— Нет, я ничего, на три кустика набрел, — самодовольно улыбаясь, признался он.
— Да я уж видел обрезки, — сказал Митька тоскливо.
— Хорошие кустики. — Алик не чувствовал за собой никакой вины.
— Пошли! — сказал Митька сердито. — Дорогу-то домой запомнил?
— А как же! — Корзина у Алика натруженно поскрипывала. — Меня один раз проведи — на всю жизнь запомню. Потом хоть с завязанными глазами пройду.
Они стали спускаться к логу. И — надо же! — под ногой у Митьки неожиданно хрустнуло. Груздь раздавил. Нагнулся Митька — а по всему угору бело. Смотри ты, на солнышко выскочили!
Митька опомниться не успел, а Алик корзину свою отставил в сторону и запрыгал от груздя к груздю. Нарежет в подол рубахи — и к корзине. Нарежет снова — и опять вывалит в кучу.
Митька не спеша наполнил корзину. Теперь торопиться незачем: пошли груздочки. Хоть каждый день бегай сюда. А мать увидит, что не пустой вернулся, сама Митьку погонит в лес. И Николу найдет пристроить к кому.
— Ну, двинулись…
А Алик вертелся вокруг наваленной им горки груздей и ничего придумать не мог. Рубаху было стащил с себя, хотел ее набить, да комары облепили спину. Пришлось отказаться от этой затеи.
— Митька, ну чего делать-то?
— А я знаю чего?
— Не оставлять же тут.
— Чего хочешь, то и делай.
Алик сложил грузди под елочку, забросал лапником, а на дереве залысину выстрогал.
— Сегодня же прибегу.
У Митьки пропало всякое настроение. Не груздей было жалко, а чего-то иного, чему Митька не находил объяснения.
Корзина и у него тяжело поскрипывала, а праздника на душе не было.
Старший брат снова надул Тишку. «Сходи, — говорит, — пожалуйста, за водой, а потом вместе за малиной пойдем». Тишка еле дотащил ведро от колодца, все руки вытянул, а выходит, и торопился зря: Славки уже и след простыл.
Тишка схватил корзину, кинулся было вдогонку за братом, до реки добежал, а перебираться по лаве на другой берег все-таки не решился: ведь брату и в лесу станешь кричать, так не откликнется — пропадай Тишка пропадом, ему и не жалко нисколь. Только дразниться и знает: «Переполошник, переполошник». Вот, скажет, струсил за нами в розыск пойти. А и не струсил вовсе, по-разумному поступил: если б Тишка знал, где малина, так и без брата ходил бы за ней не по одному разу в день, никаких бы медведей-сластен не боялся. Вот вам и переполошник!
Тишка повесил пустую корзину на руку и повернул домой.
Над Полежаевом беспокойно кричали вороны. С деревьев облетал лист, и вороны кружились в листопаде, как в вытряхнутом из подушек пуху. Тишка приложил руку ко лбу, прикрывая глаза от солнца, и посмотрел в гору.
Сверху спускалась к реке Маринка Петухова и громко охала, разговаривала о чем-то с собой, размахивала левой рукой. Правая у нее была занята, поддерживала собранный в горсть подол фартука, в котором что-то угловато топорщилось. Тишка сначала подумал, что у Маринки в фартуке грибы. Но кто же грибы носит из дому в лес? И Тишка насторожился.
— Теть Марин! — посторонился он с тропки, когда Петухова поравнялась с ним. — Чего это в фартуке-то?
— Ой, Тишка! — еще громче запричитала Маринка. — Да ведь котят на реку топить несу. Жизни от паразитов не стало: не изба, а кошачья ферма. Шагу ступить нельзя, так под ногами и вертятся…
Кошек у Маринки расплодилось и в самом деле полно. Вся деревня над ней насмехалась:
— Ты, Маринка, не в мясопоставку ли откармливаешь их?
А уж какая мясопоставка! Просто сердце у Маринки мягкое: живую душу не загубить…
— Ну-ка покажи, — попросил ее Тишка.
Петухова оттянула фартук: три пепельно-дымчатых комочка тесно жались друг к другу, незряче тыкались розовыми носами под лапки, в живот и зябко дрожали.
— Они что, слепые? — спросил Тишка и погладил котят. Котята, ощутив накрывшее их тепло, вытянули шеи, раскрыли шершавые рты. — Ой, да они ведь голодные! — догадался Тишка. — Ты чего их не покормила-то? — Он строго посмотрел на Маринку снизу, нахмурил брови. Ни дать ни взять, Маринкин начальник, а не Тишка-переполошник, которого ребята не взяли в лес. — А если они помрут?
— Тишка, да я ведь топить их несу, — напомнила Петухова. А у самой и слезы на глазах выступили. — Ведь им теперь все равно, что сытые, что голодные…
Тишка вытаращил глаза. Да-а, положеньице. Котят было жалко.
— А они сами-то не проживут? — спросил он.
— Как это сами? — не поняла Маринка.
— Ну, если их в траву отпустить…
Маринка всплеснула левой рукой. Правая, с фартуком, у нее тоже дернулась, и котят встряхнуло, перевернуло вверх лапками.
— Тишка, да ты как с луны свалился! — укорила его Маринка. — Где это видано, чтобы котята без кошки росли. Не мыши ведь…
Тишка поскреб за ухом. Маринка совсем его озадачила.
— Ну, а к другой кошке нельзя подсадить? Не к матери?
Тут и Маринка не знала. На ее памяти такого не бывало еще.
Кто будет подсаживать котят к чужой кошке? Да и подпустит ли она их? Это ж не курица, которой своего цыпленка от чужого не отличить — все одинаковые.