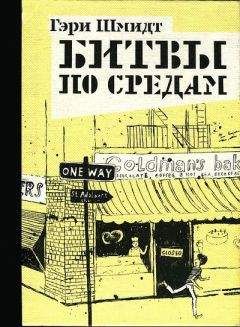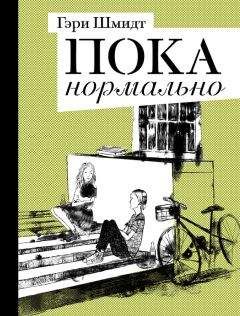Мы снова залезли под парты и закрыли головы руками. Никаких разговоров! Абсолютная тишина! Дышать тихо и глубоко!
— Глупость какая, — пробормотал Данни.
— Прекратите разговоры! — потребовала миссис Бейкер.
— Но у меня вопрос! — настаивал Данни.
— После отбоя воздушной тревоги.
— Вопрос про тревогу!
Миссис Бейкер вздохнула.
— Ну, мистер Запфер? В чём дело?
— А вам не опасно так стоять? Может, вам тоже под стол залезть?
— Спасибо за заботу. Я сознаю, что иду на риск.
— А если и вправду бомба? Прямо на школу? Прямо сейчас?
— Тогда мы сегодня больше не сможем рисовать схемы сложноподчинённых предложений.
— Хорошо бы… — прошептал Данни себе под нос.
Данни, конечно, зря задирался, но на самом деле он просто нервничает. Неотвратимо приближается его бар-мицва, и он боится её куда больше, чем атомной бомбы. Дёрганый весь ходит и огрызается, если я пытаюсь его успокоить.
— Послушай, — как-то раз сказал я, — ты же целый год зубрил иврит.
— Не год, а годы, — поправил он.
— Значит, ты готов! Что там страшного?
— Что страшного? Да всё! Всё подряд! Только представь: рядом стоит раввин и ещё куча родственников, все на тебя пялятся — родители, бабушки-дедушки, тёти-дяди, братья двоюродные, сёстры троюродные, седьмая вода на киселе! Я некоторых за всю жизнь в глаза не видел! Привезут даже двух двоюродных бабушек, которые иммигрировали из Польши в девятьсот тринадцатом году, и деда, который сбежал от русского царя. Нет, ты представь: все смотрят тебе в рот, умиляются, плачут, а сами только и ждут, чтобы ты ошибся. Ошибёшься, они хором подскажут верное слово, но посмотрят на тебя так, словно ты — позор семьи и в синагоге тебе не место. Что страшного, что страшного…
— Слушай, а влезь там под парту, а? — предложил я. — И дыши тихо и глубоко. Вдруг пронесёт?
— Ага, сейчас тебе в нос жвачку засуну — точно пронесёт.
Но мы с Мирил и Мей-Тай решили, что без жвачки в носу мы как-нибудь обойдёмся, а Данни и правда надо помочь. Поэтому большую перемену мы теперь проводим, слушая, как Данни читает наизусть текст — тот, что ему предстоит читать на церемонии. Мы слушаем, хотя не понимаем ни единого слова. Даже не знаем, правильно он их произносит или нет.
Каждый день к концу большой перемены Данни мечтает сбежать в Калифорнию.
— Я больше не могу, — говорит он.
— Можешь, — отвечаем мы.
— Я не хочу! — говорит он.
— Хочешь! — отвечаем мы.
— Мне на эту бар-мицву наплевать, — говорит он.
— Не наплевать, — говорим мы.
Всё это похоже на спектакль, а я, как вы помните, в спектаклях толк знаю.
Длится эта история уже много дней. Мы, можно сказать, втянулись. Но приходится отвлекаться на гражданскую оборону. Учения происходят ежедневно, и сирена завывает в самый неподходящий момент. Сидя под партами, Мирил и Мей-Тай тихонько напевают мелодию из нового фильма про короля Артура, мюзикла «Камелот», а миссис Бейкер ничуть не возражает, хотя по идее нам положено сидеть тихо. Данни продолжает репетировать на иврите, что совсем не просто, учитывая, что надо закрывать голову руками. Я же пуляюсь в него шариками из трубочки, а это, если одновременно закрывать голову руками, ещё труднее, чем говорить на иврите. Что до Дуга Свитека, он просто засыпает. А спит он очень слышно, всерьёз спит. Ну а потом расстраивается, сами понимаете. Заснуть на уроке — последнее дело, особенно если все вокруг слышат твой храп. Проснёшься — а над тобой все ржут. Не приведи Бог. Конечно, это не так унизительно, как жёлтые колготки с перьями на заднице. Но что-то в этом роде.
Очередная сирена завыла в среду днём, в середине месяца, когда «Янкиз» выбивали в среднем по ноль целых сто восемьдесят семь тысячных на игрока и болтались где-то на девятом месте, совсем как в прошлом году, а одноклассники разъехались по храмам. Такие знойные безветренные дни случаются в мае, чтобы напомнить, что впереди июль. Я послушно залез под парту и тут же ощутил, что воздух — тяжёлый и липкий и что я скоро вспотею. И вспотел. Ну за что такая несправедливость? Сижу тут один, а все остальные — кто в синагоге Бет-Эль, кто в соборе Святого Адальберта, где учебную тревогу никто не объявляет.
Похоже, миссис Бейкер, хоть и не залезла под стол, моё недовольство разделяла.
— Нелепо всё это, — сказала она. — Верно, мистер Вудвуд?
Я выглянул из-под парты. Но рук на затылке не разомкнул.
— Миссис Бейкер, — произнёс я, хотя по инструкции должен был молчать и дышать тихо и глубоко.
— Да?
— Вы могли бы не называть меня «мистер Вудвуд»? Я — Холлинг. А мистер Вудвуд — мой отец.
Миссис Бейкер присела рядом, на парту Данни Запфера.
— Ты всё ещё сердишься на него? За то, что подвёл в день открытия сезона?
— Уже нет. Просто я… я теперь не хочу быть таким, как он.
— Но у тебя с ним много общего. Мирил-Ли показала мне твой рисунок. Чудесный рисунок. Сразу видно, что ты — прирождённый архитектор.
— Может, и так.
— А кем быть и каким быть — тебе самому решать.
Я кивнул. Именно. Я хочу решать это сам.
— Боишься, что тебе не позволят? — продолжила миссис Бейкер. — Что всё решат за тебя, верно?
— Ага. А я хочу проверить, смогу ли… ополчась на море смут, сразить их противоборством.
— Это удаётся немногим. Даже Гамлет никак не мог решиться.
Снова завыла сирена, она укоряла нас за болтовню и требовала абсолютной тишины.
— Нет, всё-таки нелепо! — Миссис Бейкер рассердилась не на шутку. — Мы тут читаем Шекспира, третий акт «Гамлета», а нас заставляют прятаться под партой от атомной бомбы. Шестнадцатый раз подряд, я считала. Неужели, чтобы грамотно сидеть под партой, нужно шестнадцать репетиций?
Глаза у неё в этот момент стали квадратные, я точно видел.
И тут она внезапно приняла какое-то решение.
Вместо того чтобы ходить по рядам — как положено по инструкции, — она отправилась в раздевалку и стала там копаться. Ищет что-то? Неожиданно раздался грохот, звон, и весь класс мгновенно наполнился таким ароматом, точно Джон Сильвер и его шайка-лейка распили бутылку рома, причём не одну. Очень много.
Из раздевалки послышался голос миссис Бейкер:
— Холдинг! Похоже, разбился кувшин с сидром, который миссис Кабакофф подарила нам зимой. Беги за мистером Вендлери.
Я побежал. Войдя вслед за мной в класс, он даже глаза вытаращил.
— Ничего себе запашок! Пивоварню открыли?
— И не говорите. — Миссис Бейкер вздохнула.
— Вам тут никак нельзя оставаться, — заявил завхоз.
— Вы полагаете? — неуверенно произнесла миссис Бейкер и перевела взгляд на меня. — Что ж, тогда отправляемся на полевую практику.
— На практику? — Я оживился.
— Поедем осматривать местные исторические достопримечательности.
Я задумался.
— Разве у нас есть достопримечательности?
Миссис Бейкер достала из нижнего ящика стола свои белые кроссовки.
— Есть, — уверенно сказала она. — Мистер Вендлери, вы уж, пожалуйста, проветрите хорошенько, когда вытрете лужу.
Мы вместе прошли в канцелярию, где секретарши, как и предписано, до сих пор сидели под столами. Миссис Бейкер объяснила миссис Сидман, что в классе разлился сидр и запах стоит как в пивоварне, поэтому ученику там делать нечего и, пока мистер Вендлери убирает, мы хотели бы отправиться на полевую практику. Пока миссис Бейкер говорила, бровь у директрисы вздёргивалась всё выше, всё удивлённее, но, поскольку миссис Бейкер ещё и руки на груди скрестила, спорить с ней миссис Сидман не стала. Скрещённые на груди руки — аргумент неопровержимый. Одна из секретарш вылезла из-под стола, дала миссис Бейкер заполнить особую форму, потом они позвонили моей маме — и мы наконец сели в машину миссис Бейкер и отправились осматривать местные исторические достопримечательности.
Пересекли Лонг-Айлендскую автостраду и, углубившись в хитросплетения улочек и просёлочных дорог в северной части города, остановились возле Квакерского дома.
— Это здание построено в тысяча шестьсот семьдесят шестом году, — сказала миссис Бейкер. — Только представь, Холлинг! Тогда ещё были живы современники Шекспира! А сто пятьдесят лет назад в этом доме находился перевалочный пункт так называемой подпольной железной дороги. Рельсов тут, конечно, не было, тем более под землёй. Но тут прятали беглых рабов. Дом стоял на маршруте, по которому их переправляли с юга на север.
Дорога снова запетляла меж домов.
— А вот это — первая на Лонг-Айленде тюрьма, — сказала миссис Бейкер. — В ней всего две камеры, одна мужская, другая женская. Первым сюда посадили мужчину, за кражу лошади. А первую женщину посадили за то, что она отказалась платить церковный налог, поскольку не ходила в церковь. Она боролась за свои права, за свою свободу. Вон, смотри, решётка на окне. Сквозь эти прутья она смотрела на волю.