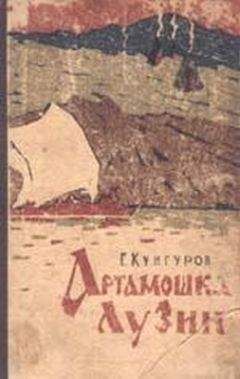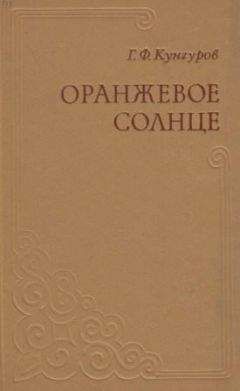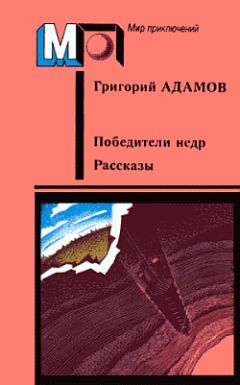Мужик сел. Ватажники окружили его, насторожив уши. Филимон спрашивал:
— Кто же будешь?
— Отшельники мы. За веру страдальцы, боговы мученики.
— А откуда взялись?
— С самой Расеи беглецы.
— То-то, слышу я, голос у тебя расейский, против наших, сибирских, тих и кроток. У наших сибирских голоса ревущи, грубы, не говорят, а в барабан бьют.
— Ну, а как Расея? — интересовались ватажники.
Мужик замотал кудлатой головой:
— Ой, не спрашивайте, милые, и не расспрашивайте! Горько! Горше полыни…
— Отчего ж так?
— Сгинула Русь-матушка! — заохал мужик. — Истощилась земля, обнищала, иссохла в камень. Ждал народ дождя. И вот затмилось ясное солнышко тучей, к не разобрать стало — не то день, не то ночь, сплошная темь. Обрадовался народ, да рано. Упала та черным-черная туча на землю не дождевыми обильными каплями, а червем смрадным…
— Червем?..
— Именно, милые, червем-обжорою. Изничтожил тот проклятый червь все сущее на земле: травы сенные, цветы, злаки хлебные, листья древесные и даже иголки с лиственниц, елок и сосен ободрал.
Мужик передохнул и опять зашамкал:
— Голод косить начал и животину и народ. Кинулся тогда народ в бега на все четыре стороны. От черной смерти спасаясь, иные ударились в убийство и разбой — то грабежники, иные в лесах дремучих укрылись — то шатуны тихие…
Насупились ватажники. Мужик закашлялся, обвел мутными глазами сидящих:
— И пошло по Руси смятение великое и вере церковной шатание, и раскол умножился. Стали к богу обращаться кто как вздумает: кто крест кладет ото лба на грудь, кто до пупа, кто два перста складывает, кто три, а иные чуть не кулаком молятся… С той поры махнули мы на все рукой и пошли по божьему пути.
— А куда ж тот путь ведет? — спросил Филимон.
— К смерти, мил человек, к праведной смерти. Путь един, другого пути человеку не дано.
— Да-а… — протянул Филимон.
— Худ и наг человек, в чем душа трепыхается, — покачал головой один из ватажников.
Мужик устало опустил голову:
— Отощал, милые, смертельно!
— На, пожуй, — дал мужику ватажник затасканную корку хлеба.
Мужик схватил и сунул корку в рот.
— Много ль вас, отшельников?
— Сотни были, да померли. Остались считанные души — не более трех десятков.
— Веди! — скомандовал Филимон.
— Куда? — испуганно заморгал мужик.
— Где жилье ваше, туда и веди!
— Такового не имеем: в ямах живем.
— В ямах?
— Аль не имеете чем дерево срубить? Отчего стали кротами земляными?
— Живем, как бог велит, — с достоинством ответил мужик, — а не так, как самому надобно.
— Веди и кажи, где те ямы!
Мужик неподвижно сидел, потом жалобно простонал:
— То не можно. Оставьте богово богу, не мешайте людям смерть принять… Не тревожьте…
— Артамошка! — крикнул Филимон. — Дай-ка человеку соли.
— Сколь?
— Сколь унесет.
— Не много ли, тятька? Не столь богаты солью.
— Делай! — рассердился Филимон.
Артамошка принес мешок соли и легко сбросил его с плеча под ноги мужику. Мужик впился костлявыми руками в дерюжный мешок и торопливо поволок его в тайгу. Сделал несколько шагов и упал, оглянулся, вновь вцепился в мешок, вновь упал от бессилья. Ватажники вздумали помочь ему, но он зарычал зверем, замахал руками: никого к себе не подпускает. Как муравей, вертелся он около мешка и волок его по земле.
Вскоре из темного леса показались люди. Выглядывая из-за деревьев, они моргали глазами испуганно и дико. Ветер трепал всклокоченные бороды и седые космы, спадающие до плеч. Ватажники звали:
— Эй, лесовики! Вылезайте из нор!
— Вылазь, не бойсь!
Несмело стали выходить из леса люди с желтыми, морщинистыми, измученными лицами. Рваное тряпье да обрывки затасканных звериных шкур едва покрывали серые тела. Главаря искали долго. Отыскали в одной из земляных нор, что вырыты были отшельниками около Черного озера. Стоял он на коленях в липкой грязи и молился за упокой своей души и душ отшельников, которых уже давно не считал в живых. Его белая борода спадала чуть не до пояса, ветер трепал седые волосы. Маленькие живые глазки светились из-под нависших бровей. Длинные высохшие пальцы отливали синевой, как у мертвеца. Старец бормотал себе под нос:
Ветры буйные, гулящие.
Бури дикие, свистящие,
Облетели вы сини горы,
Облетели степные просторы,
Рыщете вы дьяволу на потеху,
Страшно на земле человеку,
Худо!
Смерть! Смерть! Смерть!..
Старец припал к земле лбом и долго бормотал непонятное.
— Этот? — громко спросил Филимон.
— Потеха! — засмеялся Артамошка.
— Тише! — зашипели отшельники и, пугливо озираясь, стали усердно молиться.
Артамошка ухмылялся, хитро щурил глаза.
К нему наклонился отшельник, в самое ухо зашипел:
— Ой, отрок, неладное творишь!
— Эй ты, поп! Вылазь! Ишь, вожак, в яму забился! — сердито говорил Никита Седой.
Отшельники затряслись в испуге. Старец повернул голову, сверкнул глазами и дал знак, чтобы не мешали.
— Гриб червивый, — не вытерпел Никита, — разве поп может в вожаках быть!
— Святой, — тряслись в страхе отшельники, — за всех с богом беседует!
— Без еды и пищи живет, век молитвой кормится…
Артамошка заглянул в пещеру-яму старца. Из нее несло могильным запахом и сыростью. В стороне стоял грубо сделанный сосновый гроб, на кромке его теплилось жиденькое пламя восковой свечи, в изголовье лежала древняя иконка. Артамошка просунулся в пещеру и за гробом увидел целую груду высохших и свежеобглоданных костей дичи и рыбы. Артамошка вытянулся, сгреб кости в кучу и выбросил из пещеры. Ватажники ахнули. Отшельники окаменели. Старец злобно метнул глазами, схватил посох и пустил его в Артамошку. Тот едва увернулся от удара, захохотал:
— То кости святого духа, что на Черном озере кричит «кря-кря»!
— Шш!.. — зашипели в страхе отшельники. — Уведите отрока!
— Быть беде! Сгинешь, отрок, — иссушит тебя старец в былинку, напустит злые болезни… Кайся! — бормотали отшельники.
— Зачем врали, что не ест земной пищи старец? А кости? — смеялся Артамошка.
— Ослушник окаянный! Зачем на старца праведного издевки кладешь? Отколь приполз, змееныш? — закричал рыжий мужик.
— Гони его! — замахали посохами отшельники.
Старец буравил глазом толпу и, постучав посохом о землю, скрипучим голосом сказал, показывая на стоящих в стороне Чалыка и Артамошку:
— Вижу дьявольских выкормков! Чую черных кровей змеенышей, осквернителей святого нашего стана.
Старец заплакал. Отшельники уставились на Чалыка и Артамошку. Старец поднял посох и бросился на Артамошку и Чалыка.
Артамошка вскинул пищаль. Филимон подбежал к Артамошке, вцепился в его рыжие волосы:
— Не балуй, озорник! — И, обращаясь к ватажникам, приказал: — Не дело надумали. Боговых людишек разобидели! Расходись по кораблям.
Ватажники нехотя потянулись к берегу.
Старец стоял, опершись на пенек, и тупо смотрел на Филимона. Грудь у старца была голая, на медной цепочке висела маленькая иконка. Он взял ее желтыми пальцами, поднес к губам, потом перекрестился и спросил:
— Куда бредете, грешники?
— Куда бог укажет.
— Шатунов лесных, разбойных бог проклял и отвернулся…
— Бог грешных милует. Филимоном Лузиным прозываюсь, вольных людей веду в Иркутский городок, тороплюсь царю на подмогу… Укажи, старец, ближние пути.
— Путь человека по звезде вечерней к праведному покою, к могиле холодной, иного нет и не ищи, грешник… А царя не поминай, он разбойных людишек не милует…
Старец стукнул посохом о землю и пошел в свою пещеру.
* * *
Догорали на берегу последние костры, отплывали ватажники в последний путь. До Иркутского острога оставалось плыть не более пяти дней.
А тем временем в пещере старца зажглась свеча. Перед старцем стоял на коленях перепуганный мужик-отшельник, которого в лесу поймал Артамошка, а Филимон дал мешок соли.
Старец смотрел тусклыми-глазами:
— Кайся, грешник окаянный… Душу свою опоганил, бога прогневал… Говори, что видел, что слышал?
— Дощаные кораблики…
— Сколько?
— Пять.
— А разбойных людей много ли видел?
— Не считал: может, сто, а может, меньше…
Старец мужика отпустил поздно — допрашивал долго; в пещеру вызвал гонца. Наказывал гонцу так:
— Добежишь, сыне, до Вертун-камня, там река большой кривун делает, ты же беги прямиком. Добежишь до Белого хребта, пойдет река той горе в обход, ты же, сыне, беги через тот хребет. Так живой рукой, без малого в два дня, прибудешь в Иркутск.
Старец поправил пальцами пламя свечи, оглянулся по сторонам совиным глазом и зашамкал над самым ухом гонца: