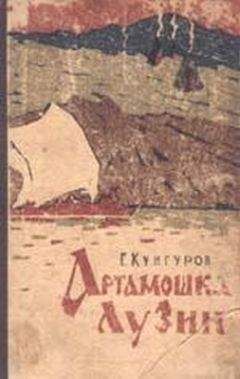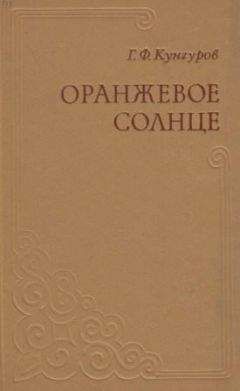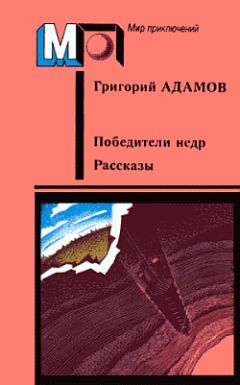Артамошка и Чалык с небольшой кучкой ватажников бежали лесом. Они пытались укрыться в болотах и зарослях. Казаки бросили лошадей и пешком преследовали убегавших. Артамошка услышал:
— Хватайте поганое отродье Лузиных! Живьем берите!
С криком и улюлюканьем бросились казаки на горсточку ватажников.
Почти все ватажники были схвачены. Многие пали под острой казацкой саблей. Чалык и Артамошка напрягали последние силы, чтоб перебежать узкую полянку, скрыться в густой чаще. Казаки бесновались, воевода подгонял и бил плетью нерадивых. Артамошка и Чалык добежали до крутого яра и, не думая, бросились вниз. Желтое облако пыли на мгновение скрыло беглецов. Поднявшись на ноги, они бросились в чащу леса. Острые кустарники рвали в кровь лицо, руки. В глазах темнело, уходили силы. Казаки окружили беглецов кольцом.
— Смерть! — задыхался Артамошка, истекая кровью.
Крики и топот заглохли: казаки либо потеряли след, либо подкрадывались. Чалык мчался, как горный козел; легко перепрыгивал через валежины, камни, выбоины, терялся за кустами и деревьями. Артамошка отстал. Бледный, измученный, прислонился он к стволу сосны, тяжело дыша. Голова у него отяжелела, ослабли ноги. Чалык вернулся к нему: «Как помочь раненому другу; Как спасти его?» Чалык сорвал с Артамошки шапку и надел на свою голову, а свою шапку бросил в кусты. Артамошка не успел и слова вымолвить, как Чалык схватил его и столкнул в яму, выбитую дождями. Валялась сухая ель, он накрыл ею друга. Отбежал, вскочил на камень, сложил ладони трубкой и загудел в подветренную сторону:
— То-то-о-о!
Далекое эхо взлетело над лесом. Так Панака учил обманывать врагов, отводить голосом в другую сторону.
Но Чалык ошибся: казаки были близко. Слышно, как хрустят под их ногами ветки, шумят кусты. Чалык нахлобучил Артамошкину шапку на глаза, сбросил с плеч меховую парку и, оставшись в одной рубахе, кинулся навстречу врагам.
Казак, выбежавший на бугор, увидел Чалыка:
— Лузинов сын! Лови сына Лузинова! — и тут же кинул аркан.
Но Чалык увернулся, и его меткая стрела ударила в плечо казаку. Тот вскинул руками и упал, обливаясь кровью. Чалык бросился к горе. Казаки за ним. Над лесом гремело:
— Лови вора!
— Аркань!
— Не уйдешь, Лузинов выкормок!
Чалык ловко карабкался вверх по крутому склону горы. Казаки заметно отставали.
Артамошка с трудом поднял голову. Перед глазами кружились белые искры, грудь давила нестерпимая боль. Приподнялся он из ямы и увидел, как по склону горы быстро карабкался вверх человек, а за ним с криками устремилась толпа казаков. Артамошка без труда узнал в смельчаке Чалыка. Бледные губы Артамошки шептали:
— Сбежит… смел!
Раздался резкий окрик. Артамошка рванулся, заохал от боли и упал в яму. Только сейчас он заметил лужу крови, в которой сидел. Сабельная рана на левой ноге обильно кровоточила. Артамошка зажал ее рукой.
Казаки разбились на мелкие отряды и стали окружать гору со всех сторон. Чалык заметил это. Спасенья не было. Он залез на самую вершину скалы и остановился. Перед глазами сияла черная пропасть.
Артамошка с трудом поднялся, вылез из ямы. Придерживаясь за стволы деревьев, он прошел несколько шагов. Сейчас ему хорошо стало видно отвесную скалу, видно, как со всех сторон облепили ее казаки. Воевода, задрав голову вверх, махал саблей, метался, разгоряченный и злой:
— Сдавайся, воровское племя!
Казаки уговаривали:
— Не гневи воеводу, разбойник!
— Отца твоего, как волка, заарканили. Петля и по тебе плачет!
— Сдавайся на милость!
Артамошка зажал голову, понял: воевода и казаки приняли Чалыка за него, радуются, что загнали на скалу Лузинова сына. Сердце Артамошкино разрывалось от боли:
— Чалык… друг мой, кровный друг!..
Послышались выстрелы. Артамошка поднял голову. Вдруг Чалык выпрямился. Артамошка не сводил с него горящих глаз. Чалык припал щекой к луку, а затем, подняв его над головой, бросил вниз со скалы. Тугой лук сделал по склону горы несколько высоких прыжков, исчез в пропасти.
«Сдается!» — задрожал Артамошка.
Обрадовался воевода:
— Сдается! Оружию бросил!
Один из казаков подполз близко к Чалыку и пытался набросить на него петлю. Чалык надвинул на глаза шапку, отвернулся от казаков, поднялся еще на шаг вверх. Теперь он стоял на самой вершине скалы. Вокруг разливалось море лесов, по долине извивалась черная речка. Солнце прыгало золотыми пятнами по снежным вершинам далеких гор. Чалык набрал грудью воздух, гордо вскинул голову, и поплыло над лесами, и горами:
— Воля!..
Эхом прокатилось это дорогое слово. Эхо смолкло, утонуло где-то в светлых далях. Всплеснув руками, Чалык бросился со скалы и вмиг исчез в черной пропасти.
Артамошка схватился за грудь, упал на землю, бился головой, хватая руками серые комья земли, рыдал:
— Чалык… Чалык… друг… брат мой!..
Воевода рассвирепел. Казака, стоявшего у вершины скалы и не сумевшего накинуть петлю, воевода велел немедля свести в пытошную и жестоко наказать за нерадение.
Заветное желание воеводы казнить Филимона Лузина вместе с сыном Артамошкой разбилось. Воевода грыз седой ус, ругал казаков за то, что преступник Артамошка ушел от царской казни, принял смерть злодей от своей же руки.
— Лучше бы из пищали пристрелить либо саблей зарубить! — кричал воевода. Но скоро успокоился, поднял суровые брови, шапку снял и перекрестился: — На все божья воля.
Казаки тоже сдернули шапки, перекрестились.
Долго бился воеводский лекарь над Филимоном, чтобы залечить смертельную рану. Воевода каждое утро вызывал растрепанного, перепуганного лекаря и твердил:
— Не роняй, Николка, воеводской чести, выходи злодея. Чтоб можно было того злодея, вора, грабежника хоть под руки довести до лобного места[14].
Лекарь разводил руками, садился на лавку и вновь вынимал из сумки лекарства:
— От бога все, батюшка воевода… Велика рана, лошадь — и та б околела.
Воевода в ответ:
— Я с тебя, ленивца, шкуру сдеру! Не о лошади, козел, речь веду, а о царском преступнике!
Лекарь был в отчаянии. Просиживал он целые ночи, прилагал все свое лекарское уменье: пускал кровь, делал примочки травяные, цветочные, древесные; накладывал разные припарки и присыпки, чтобы залечить сабельную рану.
На пятый день лекарь от радости вскочил; Филимон открыл глаза, глухо простонал:
— Сы-ын… Артамошка…
Больной закашлялся и вновь впал в беспамятство.
Рана раскрылась и кровоточила. Лекарь растерянно бегал вокруг, охал, вздыхал. Леченье пришлось начинать сначала.
Филимону стало легче, он приподнимался, сидел молча, склонив поседевшую голову. Обрадованный лекарь побежал к воеводе:
— Батюшка воевода, уменьем моим лекарским Филимона я отстоял!
Воевода провел важно по широкой бороде и приказал дать лекарю чарку водки. Лекарь низко поклонился, виновато предупредил:
— Не надо тревожить и гневить до времени больного: может удар приключиться, и тогда он не иначе как умрет.
Воевода покосился исподлобья на лекаря, стоящему рядом письменному голове приказал:
— Казнить злодея в воскресный день!
— Все готово, — ответил письменный голова. — Не надобно тянуть: неровен час умрет злодей, умрет до времени!
Воевода топнул ногой:
— Бей в барабан!
Били в барабаны. Толпы народа стекались со всех сторон на площадь. Гудела площадь человеческим гамом. Палач Иван Бородатый в длинной, китайского шелка рубахе, с засученными до локтей рукавами прохаживался по помосту, легко играл огромным топором, устрашая толпу. Рядом с широкой плахой, где не однажды рубил Иван Бородатый буйны головы, стоял короб плетеный да рогожа смертная — последнее одеяние казненных. Сбоку помоста, на рубленом столбике, — белое полотенце; им палач стирал со своих жилистых рук горячие капли крови.
— Ведут! — прокатилось по толпе.
Сторожевые казаки расталкивали плотную толпу. Над головами мелькали топоры, пищали и пики: это вели казаки под строгим караулом бунтовщиков. Впереди шел, нетвердо шагая, с измученным лицом Филимон, а за ним восемь ватажников. Туго перетянутые веревкой руки отливали синевой. Ветер взлохмачивал волосы, трепал рыжие, черные, седые бороды. Худенькая женщина в черном платке говорила на ухо соседке:
— Не велика ватажная рать…
Ей ответил приглушенный бас:
— Дура, всех воевода сказнил. А этих для устрашения народа на плаху вывел.
— Ой, душегуб!
— Шш…
— Я тихо, тебе на ухо, — испугалась женщина.
— То-то, — ответил бас. — Ноне язык прижми: подслухов воеводских развелось боле, чем мух навозных.
— Ой, лихое времечко!
Сбоку затараторила густо нарумяненная и набеленная баба в красной кацавейке. Ее перебил мужик с длинной жиденькой бородкой: