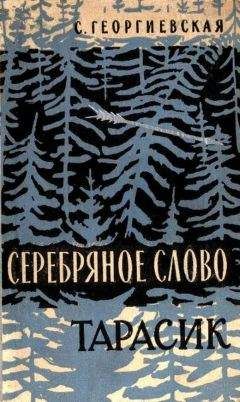Юлик: «Чего ты мелешь? Какие такие старейшины?»
«Не знаешь, что такое старейшины? Ну что ж… Объясню в другой раз. Пожелаю тебе всего наилучшего. Разреши попрощаться с отцом».
«Па-апа! Костя едет в Сванетию. За сестрой. Он получил письмо от старейшин!»
«Да что-о-о ты? Один? Без матери? Но… извини меня, Костя, какая такая сестра? Я, извини, ничего не знал!»
…Темнеет. В летнем небе над Костиной головой осторожно зажглась звезда. Должно быть, Полярная. Она всегда появляется первой.
Звезда качалась над деревом, над опустевшей улицей, над Костей Шалаевым, дымная и таинственная.
Она выплыла из того заколдованного земного царства, которое когда-то родилось за шкафом, в полутьме комнаты, в углу, едва освещенном папиной рабочей лампой.
Она была маленькая, как маленький камешек, милая, как снежинка на темной варежке.
Люди родятся под звездами, под солнцем и луной. Но почему-то уж так всегда говорят — под звездами. Наверное, потому, что звезд очень много, а солнце одно.
И оттого что до Кости множество и множество глаз уже смотрело на эту звезду, она стала звезда плюс тысячи человечьих взглядов, плюс все, что о ней говорили люди, плюс их раздумья.
Ведь это она светила и Косте, и морякам в море. Косте и англичанину Скотту, Титову и Пржевальскому, Циолковскому и Эйнштейну, Ковалевской и Берингу. Светила тральщикам рыболовов. Светила любящим. Светила храбрым. Над Африкой и Австралией. Над океанами Великим и Ледовитым. Над морями Красным и Черным. Маленькая и вездесущая, потому что:
Звезда.
— Куда ты пропал, сын?.. Ты невозможный человек. Я звонила к Юлику. Где ты был?
— Почему ты лежишь, мама?
— Для собственного удовольствия.
— У тебя приступ?
Плотно завернутая с головой в плед, мать чем-то напоминала безногую и безрукую матрешку. Угол пледа откинулся. Выступали брови, глаза и верхняя часть щек, темноватые в полутьме комнаты, — деревянно-игрушечное лицо, не то сонное, не то неподвижное. Она боялась, должно быть, приподнять голову, пошевелиться. Из-под пледа, осторожно толкнув его локтем, тихонько выпросталась рука.
…Кто-то ее завернул в плед. Она не могла сама так аккуратно подоткнуть его со всех сторон.
— Понимаешь ли, на меня ни с того ни с сего напала синдрошка! Но ведь первый раз за лето… Я начала задыхаться, испугалась. И приняла лекарство. Не обращай внимания… У астмы, понимаешь, есть свои хорошие стороны: когда проходит, чувствуешь себя очень счастливой.
Встревоженный, он стоял рядом с матерью, забыв все на свете, что не было мамой — его опорой и жизнью. Все забыв, кроме своей бессильной жалости к ней.
— Голова трещит, — чуть слышно сказала мать. — Понимаешь, прямо будто разламывается…
— Может, тебе накапать чего-нибудь? Ну, мама же!.. Что ты молчишь?!
— Не буйствуй, Костя. Сейчас пройдет. Только, пожалуйста, не зажигай света — режет глаза.
Голос у нее был бессильный и тоненький, как у девочки. От этого всякий раз становилось еще страшней.
— Подходяще болит? — спросил он растерянно.
— Подходяще, — с готовностью ответила она.
Подумав немного, он приложил к голове матери холодный стакан. Рука, скользнув, дотронулась до ее лба. Лоб был влажным.
Она облизнула сухие губы.
— Не на… Тяжело… У меня нет нервов! — вдруг изрекла она, сдавшись и жалуясь. — Нет нервов! Вместо нервов у меня, понимаешь, какие-то ничтожные волоски… Нет нервов. Одни волоски.
— Ладно, будет тебе, — проворчал Костя.
Она словно чувствовала себя виноватой и беспомощно и вместе насмешливо извинялась за беспокойство, которое причиняла ему.
— Помолчи, мама.
— Спать, спать, спать, — сказала она. — Разденусь и уплыву… Уплыву. Буду спать… Забудусь!
Она говорила голосом, который прерывало свистящее дыхание, будто в горло ей вставили движок.
Вот уже целый год, как у матери не было ни одного приступа. Он привык к «благоденствию»! Распустился, повеселел, позволил себе забыться, что на свете бывают астмы.
— Мама, я открою балконную дверь. Хорошо?
Стало тихо. В тишине завел свою песенку холодильник: зум, зум, зуав… И вдруг она спросила:
— Костя, ты бы хотел быть сваном?
— Чего?
— Ну хоть немножечко сваном? Например, быть сыном Розии Ираклиевны?
И тут что-то большее, чем догадка, чем сыновняя привязанность, «сработало» в Косте. Должно быть, в нем «сработал» мужчина. Та малая часть мужчины, которая уже созрела в мальчике.
— Я бы хотел… то, что есть. Твоим сыном. Только твоим… Поняла?.. И чтобы ты не валялась в лесу на голой земле, когда вы в командировках. У других нет астмы, а у тебя астма… («Маловато».) Разве ты не видишь, что я твой сын? («Маловато. Жарь, не оглядывайся».) Ты самая молодая и самая красивая мама во всей нашей школе. («Так держать!») Самая красивая и самая молодая на нашей лестнице. Это почтальонша Оля сказала. Она сказала, что ты похожа на листок дерева…
— На листок?
— Вот именно. Поняла? Хочешь, еще повторю: на листок клена… Так Оля сказала.
Мать слушала, наклонив голову. Без улыбки, уставившись в распахнутую балконную дверь немигающими глазами.
И вдруг Костя спросил себя, сколько раз его мама смотрела на эту звезду.
— Мама… А в лесу видны звезды?..
— В лесу?.. А как же! Только там, понимаешь, мальчик, небо не широкое, не сплошное, а клочьями, клочьями… Клочья в звездах. Как раскроенное платье в горошину. И вдруг между всеми этими горошинами одна какая-нибудь звезда. Настоящая. Смотрит, дышит… Даже поет. Ага! Не веришь? У звезды голос суслика… Суслики свистят от любопытства. Встанут на задние лапы на краю поля, уставятся на нас и свистят. Не сразу даже и догадаешься, откуда свист. Как будто это земля или дерево. Или звезда.
Помолчали.
— Если б ты только знал, как мне надоела эта история с «Тимирязевкой»!
— Мама!.. Плюнь… Тебе нельзя волноваться.
— С ума посходили… Спохватятся — поздно будет. Шутишь? Закрыть «Тимирязевку»?! Это значит прихлопнуть традиции… Это…
— Мама, перестань нервничать.
— Да, да… Так о чем же мы? Ах да… О Розии Ираклиевне.
— Мы говорили о звездах, мама.
— Если хочешь знать, она была человек гениальной воли. А это больше, чем ум, больше, чем…
— Мама!.. А ты точно знаешь, где Северная звезда?
— Не Северная, а Полярная. Знаю. Я бы очень хотела иметь гениальную волю, Костя.
— Мама… тебе бы сейчас хорошо поесть…
— Костя, ты добродетелен до скуки, до невозможности.
И она, вздыхая, принялась жевать плюшку, которую он подал ей. Жевала лениво и рассеянно, думая о чем-то своем. Было видно, что есть ей совсем не хочется.
— Запей, — сказал Костя и подал ей молока. — Я бы подогрел чаю, но не хочу уходить на кухню.
— Мой хороший очкастый сын… — Она пила большими глотками.
— Еще молока, мама?..
— Гриба налей… Мне уже совсем хорошо. И весь ты у меня неуёмный какой-то…
— Не болтай, мама!
— А слабо когда-нибудь не пойти в школу?.. Взбунтоваться и не пойти в школу… А между прочим, Костя, твоего Пржевальского выпороли.
— Да будет тебе!
— Да, да. Его в гимназии взяли и выпороли… По личному ходатайству матери. Не веришь? Читай Пржевальского. «Всю жизнь я ей был благодарен за эту меру…» Прелестно. Ты мне просто цены не знаешь.
— Мама!.. Когда ты станешь человеком? Ну, как все мамы?..
— Костя, почему ты так долго не приходил?.. Я звала, звала… Нам так нужно поговорить…
Вздохнув, она спустила на пол босые ноги и медленно подошла к балконной двери.
— Дай папиросу, Костя.
— Ты что?! С ума сошла?
— Говорю — папиросу!
Она стала самой собой. Из слабой девочки превратилась в Костину маму. Как только ей сделалось легче, выступили черты ее насмешливого своеволия.
На фоне светлого прямоугольника балконной двери мама казалась мальчиком. Она была в старых Костиных брюках. Над ее головой в летнем небе сияла звезда.
— Ложись-ка поскорей, мама.
…У меня есть пушистая ко-ошка-а, —
пропела она чуть слышно в ответ.
— Ты бы еще сплясала, — сказал он дрогнувшим от обиды и раздражения голосом.
— Ладно. Сейчас…
Я другу отдам собаку.
Подруге — певучую кошку.
Но где продаются,
Кому достаются
Тихие, грустные ослики?..[1]
Звезда над головой матери смотрела на Костю.
— Мама, а если бы вдруг упала звезда, ты бы успела задумать что-нибудь?
— Да.
— А что примерно?
— Чтобы ты был счастлив. И чтоб я скорее постарела.
— Мама, какое у тебя маленькое сердце!