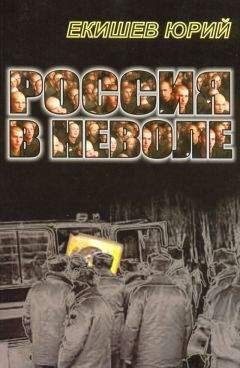Володя разжал пальцы, и птичка, пропищав, взмахнула крыльями, полетела как-то немного косо в сторону и вскоре исчезла в густой траве.
— Завтра дождь будет, — решает дед.
— Откуда вы знаете?
— Воробьи в пыли купаются, и пчелы сильно гудят.
Домой возвращались вместе. Володя впереди, дед за ним.
Останавливались возле кринички. На огороде Володя вырывал капустный лист, Вставал на колени и зачерпывал им холодную ключевую воду.
— Отсюда все пьют, — говорил дед. — И старые, и малые, и птицы. А вода все равно остается такой же свежей и прозрачной. Потому что вот там, неподалеку от старой ольхи, из-под земли небольшой ключ бьет. Он-то и питает настоящей водой криничку.
Присаживались с дедом отдыхать возле кринички. Тихо вокруг. Только в густой траве тысячами звонких голосов беззаботно стрекотали кузнечики и где-то над самой рекой раздавалось радостное щебетанье ласточек…
Сейчас все это Володя припоминает, как дивную сказку.
Теперь не ходит дед Михаил в лес. Стерегут лес полицаи с немцами, никого туда не пускают — партизан боятся.
А из кринички люди воду не пьют. Она для шуцманов, тех, что железную дорогу охраняют, да еще на немецкую кухню ее ведрами носят. А людей прогоняют… Это из нее Володя приносил Гайдару воду. «Где он?» — часто думает Володя. Достает из тайника «Школу» и снова видит Аркадия Петровича возле пулеметной башни на бронепоезде. Жалеет Володя, дураком себя называет: «Если бы хорошо попросил, то, может, взяли бы на бронепоезд. А сейчас жди… Говорил Аркадий Петрович: «Твое время придет!» Чего ж оно не идет?»
И стало больно Володе оттого, что нельзя побежать к криничке, в лес, нельзя пойти в школу: теперь там уже вражеский штаб.
Однажды забрел Володя за болото, под старую, покривившуюся ольху и вспомнил рассказ деда Михаила о родничке.
А что, если воду в болото отвести? Заилится криничка. А отчего, никто, кроме Володи, не знает. Чтобы шуцманы из кринички воду не брали, потому что из нее Гайдар пил! А придут наши — они обязательно с дедушкой раскопают криничку, подведут родничок. Пускай люди пьют, пускай поклоняются той криничке…
Медленно побрел Володя к будке, в погребе отыскал лопату и снова вернулся к ольхе. Торопился, то и дело прислушиваясь, не идет ли кто. Следы присыпал прошлогодними листьями, пожелтевшей травой.
Словно на крыльях летел домой Володя: «Ага, добрался до вас, проклятые шуцманы!..»
Он никому об этом не скажет. Разве только что деду Михаилу.
Дед Михаил лежал на печи, глядя с тоской в маленькое окошко. Вдруг резкий стук в дверь.
Покрякивая, нехотя слез дед с печи, бережно разгладил широкую окладистую бороду и неторопливо вышел на крыльцо.
Возле ворот стоит кляча, запряженная в двухколесный возок, а полицай с карабином — под окном.
— Поросенка зарезали, дед? — спросил он. — А на свеженькое и не зовете…
— Разве мало тут вашего брата ходит! Не звал тебя в гости, а ты сам по старые кости.
— Да, придется побеспокоить. Приехал я, дед, не грабить, а обыск делать, — таким же тоном отвечает ему полицай.
— А хотя бы и грабить! Я не боюсь. Нет ничего… Мыши одни, да и те скоро от голоду подохнут.
— А корова?
— Была здорова. Немцы зарезали. Вон там под грушей их кухня полковая стояла, там ее, беднягу, и зарезали, там и сварили. Всё постояльцы съели, облизали пальцы и портрет Гитлера на стену повесили.
— Ну хватит, дед, лясы точить… Где сало?
— Было, да пропало…
— Поросенка, говорят, смалили. Правда?
— Правда.
— А где разрешение? — не отставал полицай.
— А почему я на своего поросенка да еще и разрешение буду брать? — не уступает дед.
— Кожа немцам нужна. А вы вредите, убытки наносите великой Германии… Оно, конечно, смаленое вкуснее, но свиная шкура, может, на фронте нужна, — старается объяснить полицай.
— За шкуру не знаю, а вот тебе надо быть там, только на другой стороне. А я вижу, что ты свиную шкуру ищешь, а свою бережешь.
— Что ж поделаешь, если так обернулось. Не хотелось в лагере от голоду умирать, — смутился полицай.
— Значит, за харч продался?
— Оставьте, дед, время покажет. Я свою дорогу обязательно найду.
— На чужой только не задерживайся. Да смотри, чтоб не было поздно…
— Обыск делать не буду. От начальника, пана Сокальского, получил приказ привести вас в полицию. Посмотрите, может, что есть недозволенное — припрячьте, не подведите меня. Я подожду вас на улице.
Молча собрался дед Михаил.
В дороге полицай оправдывался, проклинал свою жизнь, немцев, но дед разговор не поддерживал. Густые седые брови, как острые выступы соломенной крыши, грозно нависали над глазами.
В полиции деда привели в кабинет следователя Божко.
— Добрый вечер, дед! — приветливо встретил его Божко. Старик знал Божко давно. Из одного села были, земляки…
Ответил сердито:
— Добрый не нам, а вам, панам, немецким псам!
— Вы, дед, играете с огнем! — вспыхнул Божко.
— Разве ты не слышишь, Иван, как стонет народ от страданий? А все через вас! Хоть и темно в вашей комнате, но вижу в ней палача. За что продал Отчизну, сукин ты сын?! Ты что, плохо жил при Советской власти? — не выдержал дед Михаил и сильно стукнул посохом об пол.
— Ну и что? Разве я хорошо жил при Советах? Просто был лесником. А сейчас следователь! А нам все равно, кто будет управлять нами, только бы хозяин был добрый и хорошо платил. А вы, дед, — божевольный!
— Был и остался вольным! А ты, как я посмотрю, переменил одежду, фашистский мундир напялил. Но ты не спрячешь под ним свою черную душу. Черной она была, черной и осталась!
— Дед, поймите меня, мы ж земляки, можно сказать, почти родственники!
— Твои родственники — сычи. Продажная ты тварь! Ты мне ни брат, ни сват, а народу моему — кат[8]. С немцами держишь совет? Придет время — заставят держать ответ, — смело выложил дед Михаил.
— Я, дед, на вас не обижаюсь. Старый вы, а разуму не больше, чем у ребенка. Недалек тот час, когда вы на тот свет отправитесь.
— Хватит, прожил семьдесят лет. Человеком был, человеком и умру. Зато ни я, ни дети мои совесть свою не потеряли. А вы долго барствовать не будете. Так и знайте: выйдет скоро солнце из-за тучи, не миновать вам кары…
— Не своими словами говорите, дед. Сынки-коммунисты поучают. Доберемся и до них! — угрожающе продолжал Божко.
Скрипнула дверь, и в кабинет вошел Сокальский.
— Слышу через стену — кто же это такой разумный?.. А, это тот, что свиней смалил. А я за таких, как ты, должен упреки от шефа выслушивать?!
И вдруг Сокальский размахнулся и ударил кулаком по лицу деда.
Охнул старик и упал.
— Воды! — крикнул Сокальский.
Когда дежурный, рябой полицай, с ведром зашел в кабинет, Сокальский брезгливо показал пальцем на деда, потерявшего сознание, и раздраженно сказал:
— Лей! Быстрее, пока не сдох!
— Михаил Кононович, — обратился Божко к Сокальскому, — вы тут сами разберитесь, а я тороплюсь в город.
— Что, земляка боишься обидеть? — ехидно сощурился Сокальский.
— Вы же знаете — у меня встреча с человеком, которого посылали в лес, — спокойно ответил Божко.
— Ну ладно, идите, идите… Божко поспешно вышел из кабинета.
Когда старик раскрыл глаза, Сокальский насмешливо заметил:
— Имей в виду, мы не только на тот свет умеем отправлять, но и возвращаем оттуда! Это тебя, так сказать, в разведку туда посылали. Рассказывай, как там?
— Придут наши, подлец, сам узнаешь! — прошептал старик.
— Огня! — закричал Сокальский рябому полицаю. — Жги ему бороду, чтоб помнил, как свиней смалить, — и крепко сжал старика за горло…
Измученный, с обгоревшей бородой, с волдырями на лице, лежал дед на полу.
— Куда его? В камеру? — сопел полицай.
— На кой черт! — ощетинился Сокальский. — Лишние хлопоты! Оттащи его и брось в канаву. Отойдет — пускай живет; а нет — туда ему и дорога! А в селе увидят, как мы умеем допрашивать, и больше никто не посмеет идти против нашей воли. Это же ты мне о нем донес? — спросил он рябого полицая.
— На прошлой, вишь, неделе, когда я к вам приехал на возку, запряженном Шагулой, — угодливо уточнил полицай.
Сокальский вдруг вспылил:
— Ты забудь о Шагуле! Понял? Забудь! Имей в виду: если хоть раз услышу от тебя эту фамилию, ты навсегда забудешь человеческую речь. Никакого Шагулы нигде и никогда не было!
Рябой только глазами захлопал.
— Ну, был он или нет, я тебя спрашиваю?
— Никакого Шагулы не было, нет и не будет!
— Вот так вернее! — бросил Сокальский и быстро вышел из кабинета.
«Кем же ему приходится этот Шагула? Сват или брат?..» — обиженно думает рябой полицай и никак не может взять в толк, почему же все-таки нельзя о нем вспоминать…