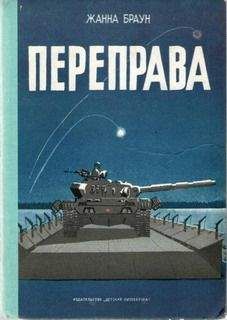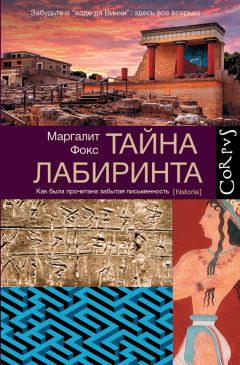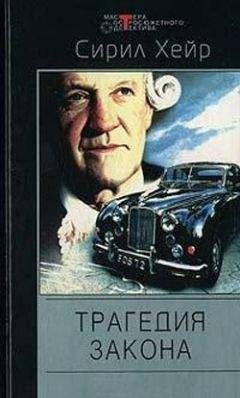И услышал, как возле окна откашлялся Черемшанов, словно у него застряло в горле. Груздев вынул изо рта сигарету и повернулся к Малахову всем корпусом.
— Так уж и мягкотелость, — пробасил он озадаченно, — пытался же воздействовать?
Малахов не принял спасательный круг. Жизненный закон жесток: не умеешь плавать — не лезь в воду.
— Мало и неумело, товарищ подполковник.
Черемшанов обошел Малахова и встал к нему лицом.
— Лейтенант, не лезь на крест. Подожди, пока поведут.
— И давно вы пришли к такому выводу? — спросил Муравьев.
— Нет, — честно сказал Малахов, — сегодня… У машины.
Груздев неожиданно засмеялся.
— Каков хитрец, а? Так себя высек, что командованию остается только вынести выговор и отпустить с миром…
У Малахова мгновенно запылали и щеки и уши. Неужели Владимир Лукьянович на самом деле так дурно его понял?
— Лейтенант приходил ко мне по этому вопросу, — вдруг сказал Дименков, — да времени не было поговорить. Стройка, сроки…
Малахов подождал, скажет ли ротный о рапорте, но он промолчал. «Ну и правильно, — подумал Малахов, — теперь-то зачем?»
Муравьев встал, застегнул шинель.
— Дисциплинарное взыскание будет наложено на солдата впервые?
Дименков быстро и виновато взглянул на Малахова, стоящего с пылающим, как у школьника, лицом.
— Так точно, впервые, товарищ полковник.
— Составьте записку на пять суток, капитан. Вы свободны. Начальника штаба и замполита прошу остаться.
Малахов и Дименков вышли из кабинета. Лицо капитана и короткие редкие волосы потемнели от пота. Он достал носовой платок и повернулся к Малахову:
— Ну зачем вы так-то, Борис Петрович? Правду майор сказал: как на крест… Всякое за службу бывает. Нервы в вас играют.
— Да, конечно, — сказал Малахов.
Он еще не мог разговаривать — слишком велико было напряжение. Он даже не обратил внимания, что капитан первый раз назвал его по имени-отчеству.
Груздев окликнул Малахова, когда он уже выходил из штаба. Он поднялся наверх и следом за Груздевым вошел в пустой парткабинет. Секретарь парткома был в командировке, и замполит второй день работал здесь — в его кабинете меняли рассохшийся паркет.
— Послушай, сынок. Ты необъективен к себе, следовательно, не сможешь быть объективным к другим. Закон равновесия… Не кидайся в крайности. Ты берешь вину на себя, значит, те, кто виновен так же, останутся безнаказанными… Пусть нравственно, но безнаказанными, что же здесь хорошего? Ты сам-то убедился, во что выливается безнаказанность?
— Убедился, товарищ подполковник.
— Ну и ладно. Иди, сынок, иди и работай.
— Спасибо, товарищ подполковник. А… а выговор будет?
Груздев улыбнулся.
— А как же! Настоящая служба, она, брат, с выговора только и начинается. Так что с днем рождения, взводный!
Малахов сбежал вниз, но Дименкова возле штаба не было. Малахов постоял на крыльце, стараясь дышать глубоко и ровно, чтобы восстановить душевное равновесие. У него не было права идти к солдатам в разобранном виде. Мимо штаба проехала «скорая помощь», повезла Рафика. В госпитале сделают рентген, и будет ясно, что у него с ногой и насколько это серьезно. Он вспомнил о Зиберове и впервые пожалел, что на нем офицерская форма…
…Малахов не помнил, как он очутился возле Рафика. Услышал крик и словно перелетел по воздуху. Сначала ему показалось, что Акопян погиб. Это была страшная минута. Когда Акопян застонал и попытался сесть, Малахов чуть не заплакал от счастья.
Солдаты толпились вокруг них, испуганные, недоумевающие. Никто не понимал, как Зиберов очутился за рулем. Потом, спустя минуты, кто-то вытащил Зиберова из машины. И крик Павлова:
— Это он виноват! Он! Руль у меня отобрал и газанул!
И мгновенный взрыв ярости… Если бы не Зуев и Михеенко, Зиберову пришлось бы плохо.
А Малахов стоял с Акопяном на руках и смотрел на своих солдат. Вот тогда и сдавила его сердце беспощадная обида на себя и на них.
Дименков был в ротной канцелярии. Здесь же ждал Малахова и Зуев.
— На восемнадцать ноль-ноль соберем личный состав роты, — сказал Дименков, — хватит миндальничать с нарушителями. Сержант, оповестить командиров отделений и офицерский состав.
— Есть, товарищ капитан. Товарищ лейтенант, там вас ждут…
— Я сейчас, — сказал Малахов капитану и вышел вместе с Зуевым в коридор. За дверьми Ленинской комнаты стоял крик.
— Что за базар? — спросил Малахов.
— Товарищ лейтенант, — Зуев замялся, и Малахов насторожился: кого-кого, а сержанта мямлей не назовешь. — Товарищ лейтенант, вы… у машины сказали ребятам: «Это на вашей совести»…
— Я? — удивился Малахов. Он совершенно не помнил, когда и кому говорил эти слова, но был готов повторить их снова.
— Большинство не понимает… Говорят, виноват Зиберов, а не мы, — Зуев хмурился и запинался. Было видно, что и ему вся эта история непросто досталась.
— Понял, — сказал Малахов, — пошли, сержант. Поговорим, наконец, как взрослые люди.
Он рванул дверь и прошел через разноголосицу на середину комнаты. Солдаты смолкли и привычно сели за столы.
— Обиделись? — с ходу спросил Малахов. — Не понимаете? Могу повторить: то, что сегодня случилось, на вашей совести! На вашей, Белосельский. На вашей, Лозовский. На вашей, Михеенко, — он перечислил по фамилиям весь взвод, чтобы ни у кого не осталось иллюзий на свой счет.
Малахов говорил жестко, и солдаты не узнавали своего лейтенанта. Они понимали, что он на взводе, но принять его слова, значит, признать и обвинение. А они не хотели быть виноватыми и возмутились:
— При чем здесь мы, товарищ лейтенант?! Это Юрка — псих!
— Юрке всегда чтоб только по его было!
— Молчать! — гневно сказал Малахов. — Стыдно слушать!
Крики стихли. От неожиданности.
— Вспомните комсомольское собрание. Вспомнили? Искалеченный Акопян — вот ему цена. Он чудом остался жив, а могло случиться, что на вашей совести была бы человеческая жизнь… На совести тех, кто на собрании спал, потому что им было неинтересно. На совести тех, кто не хотел портить отношений… И тех, кто считает своим долгом покрывать разгильдяя, раз он свой брат-солдат.
Малахов помолчал, глядя на стенд с текстом присяги. Многие невольно обернулись и тоже взглянули на стенд.
— А что в результате? — спросил Малахов в полной тишине. — Один ваш брат-солдат сидит на гауптвахте, и неизвестно, что с ним дальше будет. А второй брат-солдат лежит в госпитале… А вам что, вы сейчас обедать пойдете.
Он сел и прикрыл лоб рукой.
Солдаты еле слышно перешептывались, кашляли, скрипели стульями. Малахов и не глядя видел всех, почти угадывая, о чем они сейчас думают. Слева послышался сухой кашель — это Павлов. Он все еще не пришел в себя. В прозрачных глазах страдание. Это тот Павлов и уже не тот… Что-то же изменилось в нем за последнее время, если он решился встать на сторону сержанта против своего недавнего повелителя? А в правом углу возле окна беспокойно поскрипывает стулом Иван Белосельский. Этот зациклен на себе и все еще верит, что можно два года прослужить в армии, как в театре — зрителем. Или уже не верит? Что-то он сегодня, против обыкновения, беспокоен… Или Степа Михеенко. Этот всегда рядом с Белосельским и Лозовским. Тянется к ним умная Степина душа, тянется к городским людям, которые знают и видели больше него. Но сам в городе жить не станет. Ему нужен простор на все четыре стороны и живая земля в руках. А возле двери крутится на стуле Мишка. Он сегодня дневальный и через несколько минут ему заступать на пост возле тумбочки. Что же они молчат? Неужели мимо?
Малахов опустил руку и взглянул на солдат. Степа Михеенко тут же встал, одернул курточку, расправил под ремнем складки.
— Товарищ лейтенант, а чому вы сказали, что неизвестно, як с тем Юркою дальше будет? Отсидит пять суток, та выйдет.
— А если Акопян инвалидом останется? Не пятью сутками — дисбатом запахнет. Вот к чему ваша молчанка привела. Поймите, наконец, одно дело, когда офицер пытается объяснить, и совсем другое, когда свои же товарищи. Пора переправляться с детского берега на взрослый… Хватит играть в песочек.
— Недопоняли, товарищ лейтенант, — сокрушенно сказал Михеенко и сел.
Солдаты поддержали Степу одобрительными возгласами. Малахов почувствовал перелом в настроении и встал.
— С этого дня все. Недопонял, недослышал — не принимаю в расчет. Вас народ призвал защищать Родину — так защищайте же ее, как положено солдатам!
— Товарищ лейтенант, разрешите? — спросил Белосельский.
Малахов кивнул, внутренне ликуя, — вот оно! Первый раз Белосельский сам попросил слово на собрании. Значит, тронулся лед, тронулся!
— Разве нас призвали защищать? Я хорошо помню: когда нас провожали, никто не говорил об этом. Все говорили, что мы едем учиться, чтобы быть готовыми, если потребуется… Выходит, нас неправильно ориентировали?