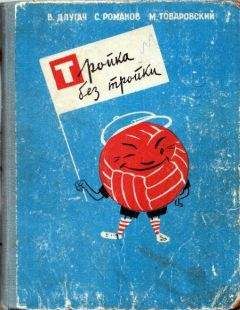— А тебе? А маме? Ведь и вы тоже хотите кушать, — лепечет он, и его крошечные ослабевшие ручонки уже разламывают скудную порцию на три куска.
— Не надо! Не надо! Кушай сам… мы потом покушаем… мы сыты! — почти в голос кричу я, боясь разрыдаться от голода и жалости в одно и то же время. Потом кидаюсь к Зиночке.
— Ты знаешь, мне предложили работу!.. Потерпи до вечера, мы будем сыты! — шепчу я.
Она только машет рукой и отворачивается в угол…
Солнце палит вовсю. Когда я стояла на плоту и мылила белье и потом споласкивала его в зеленоватой воде пруда, оно было немилосердно ко мне. Оно жгло мою голову… Голова горела. Ах, как горела голова!.. Красные круги стояли в глазах. Все кружилось — и белье, и пруд, и старые ветлы на берегу. Мозг пылал… Внутренности сжимались от пустоты… Я не ела почти трое суток… Ад, ад внутри меня… И ад в голове… Не могу больше… Не могла дополоскать белье днем под палящими лучами солнца, не могу записать и теперь эти строки в мой дневник… Силы падают… Голова ноет все сильнее и сильнее… Зато внутри все легче и легче… Я не чувствую голода. Только язык весь ссохся и трудно ворочается во рту…
Я лежу. Голова болит нестерпимо. Зиночка сидит подле меня и кладет холодные компрессы… От компрессов не легче… Нет!.. Нет! Мой дневник под подушкой. Дневник и карандаш… Когда она отходит от меня к детям, я беру и записываю… Зачем? — не знаю сама… Голова раскалывается от боли. Не могу писать…
Не могу писать…
О Боже! Боже!
В глазах какие-то круги, все тело ноет, рука едва держит карандаш, в ушах — шум, голова точно свинцом налита.
Что это усталость, голод или смерть?
Боже, неужели смерть?..
Как долго я болела — не знаю…
Сколько перемен. Господи, сколько перемен!.. Но надо рассказать тебе по порядку, все по порядку, мой милый дневник… А я так еще слаба! Так слаба вследствие болезни.
Карандаш в моих руках. Меня оставили на минуту одну. Они пошли в церковь, а Зиночка, думая, что я заснула, взяла Валю и Зеку и спустилась во двор.
Мой милый дневник, я снова одна с тобою!..
Как все это случилось?
А вот как.
Мне стало худо тогда на плоту. Голова раскалывалась от боли… Все тело горело и ныло. Я едва дотащилась до дома и упала на кровать. Сначала мне казалось, что это только от усталости и… голода. Я успела даже кое-что записать в дневник. Но потом, ночью, началась пытка. Я не могла заснуть и не могла забыться… Холодная тряпка на лбу казалась раскаленным железом… Я кричала от боли, но среди крика минутами я различала бледное, встревоженное лицо Зиночки, склоненное надо мною.
— Тебе худо, Ксаня, очень худо?
Я не отвечала. Язык плохо ворочался во рту. Губы ссохлись. Сил не было произнести хоть слово…
День поднимался и снова догорал… Ночь спустилась. Зиночка уложила детей и сама прилегла в ногах моей кровати. Она думала, что я сплю.
Но я не спала… Я слышала, как спустилась ночь, как все затихло в доме, как улеглись сапожники внизу…
Смеркалось. Я лежала на спине с открытыми глазами… Так прошла вся ночь.
Вдруг неожиданно внизу скрипнула калитка… Послышались голоса… Отворилась хозяйская дверь… Опять голоса. Заскрипели ступени лестницы под чьими-то тяжелыми шагами, дверь нашей мансарды широко распахнулась, и два черных призрака вошли в нее.
Эти два черных призрака были — Уленька и мать Манефа.
«Это только бред», — подумала я. Но нет — это не был бред.
«Они» нашли меня, нашли больную, истерзанную голодом и болезнью. «Они» сказали, что гнев Божий посетил меня, что я наказана достаточно и что нет злобы в их душе на меня. Они узнали, где я, и явились.
«Их» опять нет, и я могу писать.
Они дали денег Зиночке, накормили ее детей и, как две добрые сиделки, стали чередоваться у моей постели.
Ко мне был позван доктор. Мне заказали лекарства, купили вина…
Лекарство и вино, а главное, доктор, сделали свое дело. Тиф был захвачен в самом начале. Теперь я буду жить.
Жить?..
А стоит ли жить? Что ждет меня, одинокую сироту, в жизни?..
Да, теперь я знаю: впереди ждет меня келья. Мать Манефа твердо решила это. И она, и Уленька целыми часами говорят о том, что тяжелый крест посетил меня, что я свернула с истинного пути, уготованного мне Богом, и что нужно новое искупление, дабы получить отпущение грехов.
Что ж, они правы!
Я вижу в том сама промысел Божий. Не приди они вовремя, Зина и дети умерли бы с голода… А теперь…
Да, да!.. Надо каяться и молиться. Это решено. Я иду в монастырь.
Когда «они» уходят в церковь, Зиночка садится на мою кровать и плачет надо мной, как над мертвой. Она не может успокоиться, что я буду монахиней.
— Ты так молода, Ксаня, и должна отказаться от жизни, от всех ее радостей, — лепечет она сквозь слезы.
— Зиночка, оставь! Оставь!
Прибегают Валя и Зека. Они очень переменились за эти несколько дней. Еще бы! Сытная еда что-нибудь да значит!
Их щечки снова слабо окрасились румянцем, глазки блестят.
— Тетя Китти, — лепечут они, — мы поедем с тобою. «Черные тети» сказали, что, как только ты поправишься они увезут тебя. Правда? Мы все вместе поедем. Когда? Скоро?
Я обнимаю их слабыми руками.
— Голубчики мои… Я одна уеду… Черные тети берут только меня с собою… Вас им не надо…
— Злые черные тети! Мы не хотим, мы не позволим, — лепечет Зека в то время, как Валя молча сжимает кулачки.
— Черные тети спасли вас от голодной смерти, вы не должны забывать этого, — говорю я наставительно в то время, как мое сердце разрывается от тоски…
Что это не отвечает Миша Колюзин? Он должен сделать подписку среди артистов и собрать денет в пользу Зиночки, иначе могу ли я спокойно уехать от них?
Сегодня я встала впервые. Как я прозрачна и худа. Уленька успела мне сшить черный подрясник. Мать Манефа купила такой же платок. Я стала неузнаваема: худая, бледная, с огромными глазами, окруженными тенью, с волосами, погребенными под неуклюже спущенным платком — я теперь «настоящая монашка», как говорит Зина…
Зиночка не может смотреть на меня без слез. Дети льнут ко мне беспрерывно.
Через неделю я уезжаю с Манефой и Уленькою. Это уже окончательно решено.
Целое утро мать Манефа читала мне житие Симеона Столпника.
Я слушала ее монотонный голос и думала свою думу. И вдруг неожиданно прервала чтение:
— Матушка!
Она вскинула на меня свои строгие глаза, однако сдержала свой гнев и спросила почти ласково:
— Что тебе, девонька?
— Матушка! Я охотно, да, я охотно пойду в монастырь… Схороню свою молодость в келье… Только… дайте возможность Зине пробиться пока… Дайте ей в долг денег, матушка… Она честная… Она возвратит вам, когда поправятся ее дела… Дайте хотя немного… на первое время… Тогда я пойду за вами вполне спокойная…
Мать Манефа долго смотрела на меня, как бы испытывая мою искренность. Очевидно, глаза мои не лгали.
— Хорошо, — произнесла она холодно, — я оставлю им порядочную сумму в день отъезда. А теперь слушай далее житие святых.
— Да, я слушаю, матушка, слушаю. Я теперь спокойна, — ответила я.
Завтра мы уезжаем.
Утром я ходила в церковь с Уленькой. На обратном пути я ее спросила:
— Уленька, почему вы отплачиваете мне злом за добро?.. Неужели вы забыли, что я спасла вашу жизнь когда-то…
— Что? Каким злом?.. Бог знает, чего вы не выдумаете, девонька! — так и встрепенулась она. — Да неужто я вам зла желаю?..
— Да!.. Вот разыскивали меня, а теперь помогаете матушке запереть меня в монастырь…
— Ксеничка! Девонька! Опомнись! Что вы говорите… Это дьявол смущает вас, девонька… Гоните, гоните его! Спасение, радость небесную мы готовим вам… Спасти вас желаем. Не в миру бо, а в чине ангельском обрящете спасение… — задыхаясь от волнения, говорила она.
Я махнула рукой. Что я могла возразить ей? У нее свои убеждения, свои взгляды. Она неисправимая фанатичка до мозга костей.
Бог с нею!
Чего же волнуюсь я?
Раз Зиночкины дела устроятся, мне не страшно мое будущее, не страшно совсем…
Целый день мы провели вместе, я, Зиночка, Валя и Зека. Оба мальчика точно притихли. Даже малютка Зека перестал играть и смеяться и не отходил от меня. Валя приютился у моих ног.
Я рассказала им в последний раз сказку-быль про Ксаню-лесовичку.
Мать Манефа и Уленька ушли в церковь. Теперь они убеждены, что можно оставить меня спокойно. Они уверены, что я не убегу от них больше. Они дадут Зиночке возможность вздохнуть немного, а я им за это отдаюсь вполне, пойду в монастырь…