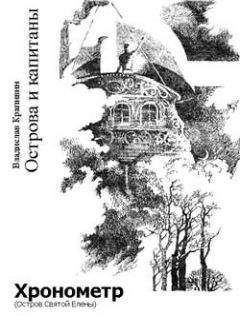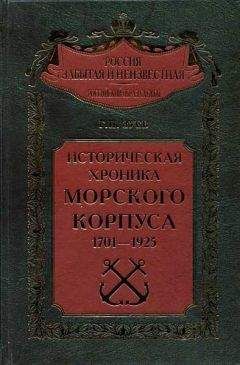ЧЕРНАЯ РЕЧКА
Часть вещей решили оставить пока на хранение Эльзе Георгиевне, кое-что из мебели раздали соседям с первого этажа. За громоздким имуществом потом приедут Варя и Юра. Мама же и Толик должны спешить: скоро сентябрь, Толика надо в школу записать...
— Поедем налегке, — сказала мама.
Сказать-то легко.
Ужас как обрастает вещами человек!
Прошлой осенью, когда переезжали в эту комнату, Толик устроил генеральную чистку. А теперь опять вон сколько добра накопилось. И для этого добра мама дала всего-навсего маленький чемодан, с которым он ездил в лагерь.
— Как я сюда все запихаю?
— Все и не надо, возьми только самое необходимое. Всякого барахла в Среднекамске насобираешь снова.
Но он и берет лишь самое необходимое.
Кольцевые подшипники для самоката отдал Назарьяну, незаконченную подводную лодку из соснового полена — Юрке Сотину. Раздал и многое другое: мотки цветной проволоки, всякие инструменты и наковальню из куска рельса, старую велосипедную динамку, руль от "эмки", самодельный проекционный фонарь из ящика от посылки... Даже снарядную гильзу, которую зимой у Васьки Шумова выменял на трубку от противогаза, отдал прежнему хозяину просто так.
Но заслуженную фляжку не оставишь! И конструктор, который мама купила два года назад на толкучке (старый, еще довоенный, без многих деталей, но все равно замечательный)! И фонарик, и коробку с диафильмами, и магнит от разобранного репродуктора... А еще надо краски положить и альбом для рисования, в нем больше половины листов чистые... А что такое в него засунуто? Ой, это же сложенный вчетверо портрет Крузенштерна!
Толик присел на пол у чемодана, развернул портрет на коленях, задумался. Но долго сидеть было некогда. Он опять сложил портрет и заметил, что из альбома торчит угол фотоснимка.
Это была карточка, которую Шурка дал Толику через день после концерта. Накануне похода.
Вот они стоят, "красные робингуды", в то время, когда все еще было хорошо.
Кажется, это было давным-давно... И лучше бы совсем не было! Толик взялся за края снимка, чтобы разодрать его пополам, и еще пополам, и потом на мелкие кусочки. На клочки все, что связано с робингудами!
Но пальцы остановились, не порвали карточку. Потому что понял Толик: он хочет забыть не одних робингудов, но и свою трусость в самолете. А это была бы уже новая трусость. Нельзя забывать то, в чем виноват, нечестно это. Забудешь, а потом где-нибудь опять сдашься страху...
А еще стало жаль того солнечного дня, когда читал Толик с расшатанной дощатой сцены свои стихи, а потом стоял с ребятами вот так, в обнимку, и радовался своей хорошей жизни и друзьям. Где-то в самой глубине души проснулась догадка, что через годы он будет смотреть на этот снимок уже иначе: без большой обиды и, может быть, с грустной улыбкой...
Да и сейчас, по правде говоря, особой обиды не было. Если подумать всерьез, разве робингуды враги? Что они плохого Толику сделали? Мишка Гельман, например? Или Рафик, или Люська! А Витя? Ну, принес тогда порванный герб да сломанный меч, так ведь не сам же хотел этого, поручили.
А Шурка, тот вообще... Вот о ком всегда будет жалеть Толик. Грустно, что не получилась у них дружба. Но все равно хорошо, что Шурка есть на свете...
Но Олегу и Семену Толик никогда ничего не простит... Хотя наплевать на Семена, он тюфяк и делает все, что велит Наклонов. А Олег — тот и в самом деле враг. Лагерные дни и "волчью яму" Толик не забудет.
Одно плохо, уедет Толик и не скажет Олегу Наклонову последнего решительного слова.
Мама попросила:
— Толик, принеси воды. Хоть полведра, надо чайник вскипятить.
Полведра — это же цыплячья доза. Через час опять бежать за два квартала на колонку... Толик налил ведро до верха и поволок перед собой, вцепившись в тонкую дужку двумя руками.
...Ух и помотали ему руки эти ведра, пока он жил здесь, на Запольной. На пальцах от железной дужки — затвердевшие мозоли. А из плечевых суставов, наверно, все жилы вытянуты. Может, в Среднекамске колонка поближе от дома? А вдруг там прямо в доме водопровод есть? Вот красота-то была бы!..
Ноги стукались о ведро, вода плескалась на штанины, они противно мокли и делались жесткими. Руки вот-вот, казалось, отвалятся. Толик поставил ведро, выпрямился и тихонько застонал от облегчения.
И увидел Шурку Ревского.
Тот шел по другой стороне улицы, задумчиво балансировал на крайней доске тротуара и Толика не замечал... Знакомый такой Шурка в своей вечной тюбетейке, дрожащей на кудряшках...
И Толик сказал:
— Шурик...
Тот остановился, крутнулся на пятке, взмахнув руками. Прыгнул с тротуара и зашагал к Толику через пыльную дорогу.
— Разве вы уже приехали? — неловко спросил Толик.
Шурка смотрел Толику в лицо своими серьезными, широко сидящими глазами. Кивнул:
— Конечно, приехали, раз я здесь.
— А что ты тут делаешь? На нашей улице...
Мелькнула мысль: уж не его ли искал Шурка? Но робингуд Ревский спокойно объяснил:
— Я записку относил папиной знакомой, она здесь живет.
— А я уезжаю... Завтра днем, в Среднекамск. Насовсем.
Шурка подумал. Сказал с прежней сдержанностью:
— Ты что-то все время уезжаешь. То из лагеря, то из города.
— Из лагеря, потому что так получилось... У меня, Шурик, один знакомый умер. Очень хороший...
— Да? — быстро сказал Шурка и опустил глаза.
— Да, — сказал Толик. И стал смотреть на свое отражение в ведре. Лицо в темном круге воды колебалось и морщилось, словно тот отраженный Толик собирался заплакать.
— А мы думали... — начал Шурка.
— Что? — вскинул голову Толик.
— Что ты испугался ямы. — Шурик опять глянул ему в лицо.
— Я?! — взвинтился Толик. — Да я же... Да мне наплевать тогда было на яму и на всех робингудов!
Шурка сказал виновато:
— Мы же не знали, что у тебя такая причина.
— "Не знали..." — хмыкнул Толик. И хотел сказать, что ему совершенно все равно, что думают про него Наклонов, Семен и прочие подлые заговорщики. Нужны они ему, как колючка в пятке... Но вдруг он сообразил:
— Шурка... А кто это "мы"? Олег-то как догадался, что я знаю про яму?
— Я рассказал. — Шурка задергал на матроске галстучек, слегка побледнел, но глаз не опустил. — Я рассказал Олегу, когда ты уехал, что рассказал тебе тогда вечером про яму.
— "Рассказал, рассказал, рассказал..." — повторил Толик насмешливо и сердито, но сразу пожалел несчастного, не умеющего врать Ревского. — Эх ты, Шурка-Шурка. Они же тебя... совсем, наверно, затюкали.
— Нет, — вздохнул он. — Мне ничего не было. Олег только сказал: "Видно, тебя не перевоспитаешь". Меня, значит.
— Лучше бы он сам перевоспитался... — Толик зло прищурился, представив красивое лицо Наклонова.
— Ему не надо, — быстро сказал Шурка.
— Надо. Потому что он гад.
— Нет! — Шурка стиснул кулачки, и Толик опять пожалел его. Но злость была сильнее жалости.
— Он гад, твой Олег, ты сам знаешь. Потому что такие подлые капканы придумывают только гады и предатели.
— Нет! Он так придумал, потому что ты... он думал, что ты изменник и трус.
— Он сам трус! Хотел, чтобы все на одного в темноте! Попробовал бы один на один!
Шурик мигнул удивленно, спросил с ноткой сомненья:
— С тобой?
— Не с тобой же... — усмехнулся Толик. Теперь-то он знал, как поступить. — Слушай, Шурка! Если он не совсем уж полный трус, пусть завтра приходит к Черной речке, на поляну!
Шурка все понял сразу.
— Он же сильнее тебя.
— Там посмотрим, — бесстрашно сказал Толик. И в самом деле он сейчас не боялся. — Ну, так что? Передаешь ему?
Шурик задумчиво согласился:
— Хорошо, я передам ему... А потом вы, может, помиритесь?
— Нет.
— Ну... ладно. — Шурка опять задергал галстучек. — А во сколько приходить?
— В семь утра.
— Рано как...
— Зато никто не помешает, — усмехнулся Толик. И хотел добавить, что настоящие дуэли тоже устраивались на рассвете, чтобы не было посторонних. Но не решился. Не к месту это было. Он только строго сказал:
— И пускай все честно будет, один на один.
— Я скажу, и он придет, — очень твердо пообещал Шурик. — И все будет честно.
Говорить больше было нечего. Толик взялся за дужку ведра. Шурка вдруг предложил:
— Давай я тебе помогу.
Толик, не разгибаясь, прошелся по нему взглядом — по ногам-прутикам , по рукам-лучинкам, по шее-трубочке. Весь он, Шурка, — глаза да кудряшки. И сказал Толик:
— Сломаешься еще.
Получилось зло и глупо, сам почуял.
Толик рывком поднял ведро и понес его в одной руке, отчаянно изогнувшись и страдая. Тяжесть выворачивала руку из плеча, пальцы резало с такой беспощадностью, что выть хотелось, а еще сильнее мучила неловкость: зачем так отшил невиноватого Шурку?