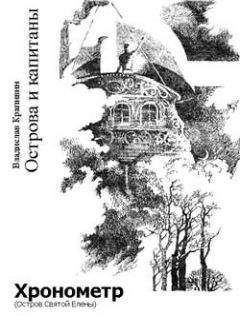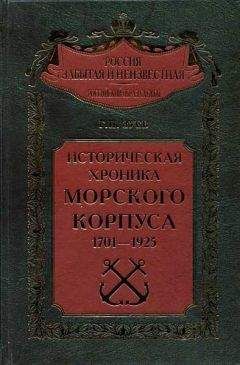— Тогда я пошел, — сказал Толик. Радости не было по-прежнему. Но все же дело свое он сделал, как хотел. Даже лучше, чем хотел.
И теперь он уходил. Навсегда... Правда навсегда?
Толик оглянулся. Все робингуды смотрели ему вслед. Даже Олег смотрел. Впереди всех стоял Шурка. Тонкий, обиженный какой-то. Замерший и немигающий.
— Шурка, — вдруг сказал Толик. — Можно, я тебе письмо напишу из Среднекамска?
Шурка мигнул. И лицо его ожило от сумятицы мыслей — словно заметались по нему зайчики и тени от частой листвы. Но почти сразу взгляд Ревского отвердел. И сказал Шурка:
— Вот еще!
"Ну что ж, прощай", — подумал Толик. И снова пошел от ребят. По берегу Черной речки.
Но почти сразу он услышал топот. Шурка обогнал Толика, потеряв в траве незастегнутые сандалии. И остановился перед ним — босой растрепанный, решительный.
— Стой! Теперь ты будешь драться со мной!
Вот уж чего Толик не ожидал!
— Шурка, ты что? Зачем?
— А зачем ты его так! До крови! — Шурка задранным подбородком показал за спину Толика, на Олега. В глазах робингуда Ревского дрожали огоньки ясного гнева.
Подошли с двух сторон Витя и Рафик. Витя сказал:
— Шурка, не надо.
— Надо! Зачем он его так!
— Но мы же честно дрались, — сказал Толик.
— А я тоже честно! Я тебе за него отомщу! — Шурка сжал губы и выставил кулачки.
По-взрослому спокойно и ласково Толик проговорил:
— Не надо, Шурик. Пусти. Некогда мне...
Или от ровных этих слов, или сам собой Шуркин запал угас, ушел, как уходит в землю электрический заряд. Рот приоткрылся, кулачки дрогнули. Но все еще упрямо Шурка возразил:
— Ты врешь, что некогда. Ты сам говорил, что поезд уходит днем.
— Не в этом дело... — Толик взял его за плечи и тихонько отодвинул с тропинки. — Скоро восемь, Шурик. Мне пора заводить хронометр.
Эпилог
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ АЛАБЫШЕВ
Вот окончание повести Арсения Викторовича Курганова. Оно сохранилось на листах, которые Толик Нечаев спрятал в подставку пишущей машинки.
"Конец 1854 года в Крыму был необычным: пришла зима — не южная, а настоящая, российская. В середине декабря выпал снег, по ночам даже потрескивали морозцы.
Севастопольцы были рады зиме. Холод хотя бы на время сковывал непролазную грязь на бастионах и в траншеях, снег прикрывал тоскливую неуютность растерзанной земли, трупы лошадей, разбитые орудия и ящики, чугунную скорлупу разорвавшихся бомб и камни с засохшими на них кровяными сгустками. Словно природа, всей душой противясь человеческому безумию, старалась укрыть от глаз военный мусор — следы затяжной осады...
Армия осаждавших отчаянно страдала от холодов. Темпераментные зуавы и бравые шотландские стрелки, лихие гренадеры маршала Сент-Арно и розовощекие "томми" лорда Раглана коченели в траншеях и маялись от болезней в палатках и дощатых бараках. На русских бастионах появлялось все больше перебежчиков из лагеря интервентов.
...На третий бастион, именуемый англичанами "Большой Редан", перешел пожилой британский сержант. Сидя на перевернутом лафете, окруженный матросами, он что-то говорил, разводя красными от холода руками. Поворачивал то к одному, то к другому морщинистое, недоуменно-горькое лицо. В светло-голубых глазах англичанина была жалобная просьба понять и оправдать.
Матросы не понимали ни слова и сочувственно кивали, поговаривая: "Оно конечно... Видать, натерпелся... Ихнему брату нынче непривычно..."
— Ваше благородие, о чем он бормочет-то? — спросил скуластый прокопченный комендор у подошедшего офицера.
Молоденький румяный лейтенант — в ладном мундире, щегольской флотской фуражке и безукоризненных перчатках, но в мятой солдатской шинели внакидку — с полминуты слушал сержанта, потом охотно разъяснил:
— Да все о том же... Раньше, мол, не такая была война, когда генерал Каткарт в Индии водил их к славным победам... А здесь, мол, офицеры совсем заморили работой, а после работы обогреться негде и горячей еды нет; поваров не оставляют, провизию выдают натурой, а варить не на чем, дров нет...
— Одно слово — не Индия, — заметил комендор.
Сержант вдруг суетливо расстегнул и стащил с себя красный мундир, сорвал с него эполеты, размахнулся, чтобы бросить, но рука остановилась. Он сжал эполеты в кулаке и заплакал.
— Ишь ты, — запереговаривались матросы. — Несладко, видать, расставаться с эполетами...
— Служил, служил, а теперь что?
— Это понимать надо: совесть-то, небось, тоже есть.
— Присягу давал ихней королеве, а теперь как? Не ваш и не наш...
Молодой матрос — рыжий, с густыми веснушками, проступающими сквозь копоть, с замызганной повязкой под измочаленной бескозыркой — сказал с жалостливым удивлением:
— Как же это он, братцы, своих-то бросил? По мне, чем такое дело, лучше уж сразу смерть.
— А ты ее не кличь, — усмехнулся скуластый комендор. — Она тебя и так зацепит, коли бог не убережет. Вон, летает...
Над головами и правда посвистывали штуцерные пули. А одна влетела в амбразуру, зацепила выпуклый обод на стволе карронады и с воем распорола подол шинели у молчаливого низкорослого матроса. Тот лениво выругался: пришивай теперь.
Лейтенант сказал, кивнув на англичанина:
— Он ведь не смерти испугался. Раньше-то воевал, не боялся; смотрите, и награды у него... А здесь невмоготу стало: холод, да грязь, да работы невпроворот. Не война — каторга.
— У нас вроде тоже не царство небесное на земле, — сказал веснушчатый.
— Да мы-то знаем, за что терпим, — возразил лейтенант. — За свою землю бьемся. А они?
— А и то верно, — согласился матрос. — Их сюда не звали.
На английской батарее ухнуло орудие. Нарастающий свист заставил всех примолкнуть. Но сигнальщик лениво крикнул:
— Перелетит, не наша!..
Бомба лопнула далеко за бастионом, среди домиков Корабельной слободы.
— Без толку рушат город, ироды, — ругнулся скуластый комендор.
Англичанин бросил эполеты и мелко дрожал. Из круга матросов послышалось:
— Надевай мундир-то, совсем закоченеешь... Дайте ему, братцы, шинель, что от Матвея Горушкина осталась...
Шинель упала на колени перебежчику.
— Надевай, вояка... А может, как раз он бомбу-то и пустил, что Матвея положила, а, братцы?.. Ваше благородие, вы его спросите: он не из батарейных?
— Да ну его к черту... — Лейтенант поправил на плечах шинель, из-под лацкана которой блеснул новенький "Владимир" четвертой степени. — Пойду я, счастливо оставаться, братцы.
— С богом, Петр Иваныч. Счастливо и вам, — заговорили матросы. — Не забывайте бастион, ваше благородие, заходите... А как доставите памятник, не сомневайтесь — разом все сделаем...
Лейтенант миновал горжу бастиона и через несколько минут шел уже по улицам Корабельной слободы. Ближе к бастиону многие дома были разрушены и обгорели, в крышах чернели провалы, но очень скоро лейтенант оказался среди переулков, где жизнь текла, как в довоенные времена, хотя и здесь заметны были следы обстрела. Шагая по тропинкам и скользким каменным лестницам, лейтенант не первый раз подивился, как приспосабливаются мирные люди жить под боком у смерти. Каждый день падают сюда ядра и бомбы!..
Утреннее солнце — невысокое, желтое — тоже напоминало ядро, летело среди быстрых косматых облаков. Снег то покрывался тенью, то нестерпимо искрился.
Лейтенант не спешил, он был сегодня свободен от службы и шел не на батарею, а на свою квартиру. Точнее же, на корабль, где обитали офицеры и матросы флотского батальона. А на третий бастион приходил он, чтобы повидаться с сослуживцами старшего брата, погибшего пятого октября, при первой бомбардировке Севастополя. Повидаться и поговорить о деле. Давние друзья брата, с которыми служил он когда-то на пароходе "Владимир", заказали в память Евгения чугунную плиту и крест. Задача теперь уложить плиту и поставить крест на могиле. Командиры и матросы бастиона охотно взялись помочь, но дело было непростое, требовалась для него темнота. Днем-то на снегу каждый человек — будто муха на фарфоровой тарелке. А могила — за бруствером, на открытой площадке перед бастионом.
Хотя, если по правде говорить, какая там могила? Одно обозначение... Что могло остаться от человека, который был рядом с пороховым погребом, когда в погреб этот врезалось раскаленное английское ядро? Взрыв видели и слышали на всех бастионах...
Мысли о брате полны были горечи, но горечи уже привычной. За два с половиной месяца ощущение непоправимой беды притупилось, да и жизнерадостный нрав лейтенанта брал свое. К тому же мысль, что в любой день и час он может разделить судьбу брата, приносила Петру вместе со страхом и какое-то утешение...