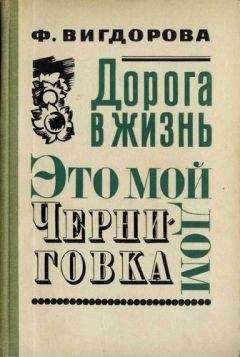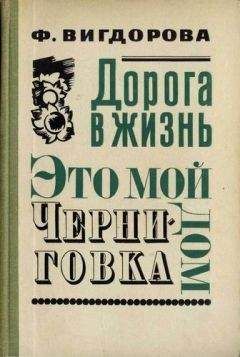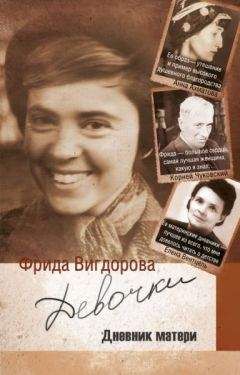– Вас-то я и дожидалась, – раздался у меня за спиной дребезжащий голос. Обернулась и увидела, старушку – маленькую, сухонькую, с острым птичьим лицом. Глаза слезятся. Старый, вытертый салопчик подпоясан солдатским ремнем. Дребезжащий голос звучит сварливо: – Вас-то я и дожидалась. Зачем камень на мою могилку столкнули? Кто вам дал такое право? Скамейке он вашей помешал, что ли? Девять лет эта могилка наша, такая веселенькая была могилка. А вы – камень?
– Меня не было, я не знаю. Наверно, ребята…
– Что значит ребята? Как это тебя не было? Хозяин всегда тут, когда скамейку ставят. Столкнули камень, поставили скамейку, ишь какие умные нашлись!
– Пойдемте, Петр Алексеевич, – взмолилась я, – не могу я слышать никакого крику!
И тогда совсем тихо она сказала:
– У меня тут старик похоронен… А два сына убитые – их тут нет, а я все думаю: тут они. И старик, и сыны… – И покойно, ласково прибавила: – Ты кого схоронила? Сестру? Как звать? Ирина? Царство небесное. Я сюда часто хожу, как приду – поклонюсь. А ты не горюй. Летом здесь хорошо. Травка. И цветы посадишь. И твоя могилка не хуже других станет. А камень пускай твои ребята вон сюда столкнут. Мне непосильно… А знаешь, как мне открылось, что моего меньшого убили? Снится мне – приходит он домой и говорит: «Мамаша, жди, приду тридцать второго числа». Смекаешь? Погляди календарь, нет такого числа – тридцать второго. Ни в одном месяце нету. Тут я и поняла: не дождусь…
Мы шли с кладбища и молчали. Мне хотелось скорей выбраться на улицу, увидеть свет в окнах. Было тяжело от ледяного ветра, от седых сумерек, от неясных теней, которые отбрасывали на снег кресты. В ушах раздавался голос старухи. Только и осталось у человека, что могила, в которой схоронен один, а ей чудится – трое.
– Иногда я думаю, – сказал Петр. Алексеевич, – что есть только одно непоправимое на свете: смерть. Все остальное – одолимо.
Одолимо ли?
* * *
Ребята были еще в школе, когда к нам на Незаметную пришел человек в шинели. Я видела, как он поднимался по лестнице. За плечами у него был мешок. На серой шапке-ушанке не растаял снег. Человек шел со станции, я знала, что недавно прибыл поезд из Дальнегорска. Кто он, этот приезжий? С какими вестями? Почему-то я ждала его и с надеждой и со страхом – так я раскрывала теперь письма. Каждый человек, каждое письмо могли принести с собою и радость и горе. Что несет нам вот этот, который идет сейчас по лестнице?..
Он шел со ступеньки на ступеньку, тяжело поднимая ноги, и, только одолев лестницу, вскинул глаза. Я увидела лицо усталое, худое. Правая рука была на перевязи. Он протянул мне левую, здоровую:
– Щеглов.
Смятение, испуг – не знаю, что было во мне острее. Я смотрела на этого усталого солдата и пыталась понять, почему с таким отвращением говорил о нем сын. Обыкновенное, ничем не примечательное лицо. Оно внушало скорее симпатию, чем неприязнь. Правда, подбородок безвольный, срезанный, как у черепахи. Но зато линия губ добрая, мягкая. И по обеим сторонам рта глубокие болезненные складки.
Надо сказать ему… – подумала я. Предостеречь. Но что сказать, от чего предостеречь? Я просто спрошу: почему сын не захотел вам написать?
– Здоров Миша? – спросил Щеглов. – Я нарочно без предупреждения. Мог бы телеграфировать, но телеграммы сами знаете как идут сейчас. Можно сказать, ползут, а не летят. Дай, думаю, неожиданно. Вот – сразу, не предупредив. Где же все ребята? Ну да, в школе. Далеко же вы, однако, забрались, можно сказать, на самый край света. В Азию…
Я даже не знала: волнуется ли он? Пожалуй, только многословие и выдавало его тревогу. Но катастрофы он не ждал, он жадно расспрашивал про Мишу и повторял:
– Удивительное все-таки счастье! Ведь все нити были потеряны. Он меня не разыскивал, считал убитым. А я искал… Упорно искал. Это бюро по розыску детей – знаете, в Бугуруслане, – они работают, можно сказать, героически…
Я все ждала минуты, чтобы вставить слово, чтобы приготовить его. Но внизу послышался глухой шум – возвращались ребята. Я оставила Щеглова в кабинете и побежала вниз. Миша сразу попался мне на глаза. Оживленный, румяный с мороза, он начал было мне о чем-то рассказывать.
– Папа приехал, – сказала я, не слушая.
Миша остановился как вкопанный и хрипло сказал:
– Не пойду!
Я стала подниматься по лестнице. Ну что ж. Надо собраться с силами. Сейчас я скажу – сын не хочет вас видеть. И тогда наконец пойму, что стоит между ними. И вдруг услышала за собою быстрые шаги. Миша нагнал меня, вместе со мной вошел в комнату и остановился у двери.
Щеглов вскочил, бросился к сыну. И тут же испуганно отшатнулся. Я обернулась: Миша смотрел на отца с выражением открытой ненависти, злобы. Простое, доброе лицо мальчика стало неузнаваемо, страшно. И все-таки снова Щеглов шагнул к сыну, положил руку ему на плечо. Миша вывернулся. Отец взял его крепче и притянул к себе. Тогда Миша нагнулся и укусил руку, лежавшую у него на плече. Щеглов, вскрикнув, отдернул руку.
– Не трогай меня! – громко, отчетливо сказал Миша. – Ты меня не смей трогать! Галина Константиновна! Теперь я вам скажу. Он похоронную на себя сам написал! Чтоб отвязаться от нас. От мамы…
– Что ты… что ты говоришь!.. Зачем ты… – дрожащими губами начал Щеглов и, точно разом обессилев, опустился на стул.
Миша не отвечал ему. Он обращался только ко мне:
– Мама два класса кончила… почти неграмотная была… Он раз товарищу своему сказал – разве она мне пара? Я слышал, я все слышал. Когда похоронная пришла, мама заплакала, а я только посмотрел, сразу узнал почерк. Потом деньги пришли, как будто от его товарища. И еще приходили, по триста рублей. Он сам и посылал – такой он добрый!
Миша был как в бреду. Он повторял одно и то же по нескольку раз – и про мамины два класса, и про триста рублей.
Отец сидел молча, повесив голову, безжизненно уронив здоровую руку.
– Я приехал за тобой, – выговорил он наконец. – Поехали бы к бабушке жить. В Томск.
– Без мамы! Отвязались от мамы, а теперь – в Томск? Никуда я с тобой не поеду!
Миша круто повернулся, с маху толкнул плечом дверь и исчез.
Мы молчали. Мне не надо было спрашивать, правду ли сказал мальчик. Что уж тут было спрашивать. Щеглов приподнял руку и беспомощно взглянул на меня. Я взяла с полки пузырек с йодом и прижгла ранку.
А жизнь в доме шла своим чередом, и не могла я подолгу оставаться наверху. Я уходила, возвращалась. Щеглов все сидел, как прежде, даже не сняв шинели, только расстегнул ее. Ему принесли поесть. Он ни к чему не притронулся. Он застыл. Стемнело, он не зажег огня. Я вошла, повернула выключатель.
– Снимите же шинель, – сказала я, – и поешьте. Мы постелим вам здесь, переночуете…
Он как бы очнулся, поднял глаза:
– Вы думаете, он со мной не поедет?
Я молчала. Как он может спрашивать, сомневаться?
– Он сказал правду. Я думал, так будет лучше для нас с ней. Чтоб ей не было обидно: не ушел, не бросил, а погиб. Думал, уеду после войны куда-нибудь, она даже не узнает. А потом затосковал без сына. Понял – не могу один. Стал разыскивать, где они. Из Бугуруслана сообщили. Вот я и приехал. Как же теперь?
– Миша с вами не поедет.
– А вы не могли бы…
– Не могу.
– Но ведь вы даже не дослушали… Прошу вас, поговорите с ним. Ведь бывают же в жизни человека ошибки. Разве вы сами никогда не ошибалась?
– Ошибалась.
Молчание было долгим, давящим. Щеглов поднялся и начал застегивать шинель.
– Куда вы?
– На станцию.
– Переночуйте. Час поздний.
– Нет.
– На дворе мороз. Вокзал не топлен. Завтра поедете.
– Нет.
Щеглов поправил портупею. Неловко потоптался на месте, пошарил по карманам, вынул большой перочинный нож и положил на стол:
– Пять лезвий. Он мечтал.
Надел ушанку. Постоял. Потуже затянул пояс. Колеблется, раздумывает – не остаться ли? И вдруг я поняла, что он просто боится выйти, боится снова встретиться с Мишей.
Наконец он отворил дверь и шагнул за порог. Мы очутились в коридоре. Лючия Ринальдовна что-то говорила Наташе, но увидела нас и умолкла. Мы вышли на лестницу, там о чем-то громко спорили Тоня и Шура и замолчали, едва увидев этого человека в шинели, с рукой на перевязи. Он спустился с лестницы и пошел по коридору. Там у трех печей сидели ребята. Они молча оборачивались, когда он проходил. Щеглов шел как сквозь строй. Все немело, на его пути.
Я отворила дверь на улицу. Жгучий морозный воздух ударил в лицо.
– Может, останетесь? – спросила я.
– Нет.
* * *
От Ивана Михайловича давно не было писем. В глазах Валентины Степановны поселился испуг. Но она крепилась. Симоновна однажды сказала:
– Галина Константиновна тоже не получает. Что ж с того?
Все непреложно верили, что молчание Семена ничего не означает. Откуда такая уверенность? Не знаю.
Куда я только не писала, в какие двери не стучалась! Отовсюду был один ответ: «Сведений о С. А. Карабанове не имеем».