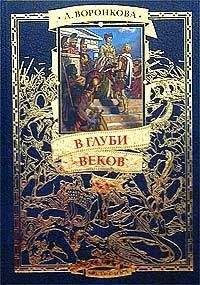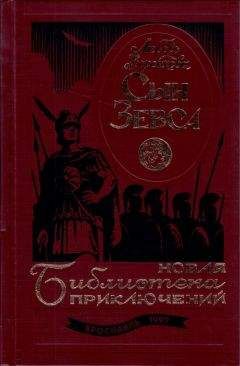Согнутым пальцем Константин Семеныч барабанит в стекло.
— Будет мне покой когда-нибудь?! Что ты стучишь, ненормальный?
Это Дора Борисовна. Она-то не изменилась совершенно. Она не меняется. Бумажные бигуди в седых волосах, старчески румяные щечки, один выпуклый черный глаз выше другого.
— Простите, Дора Борисовна. Мы хотели — Фридриха…
— Опять?! Слушай, я пенсионер союзного значения! Я имею право на отдых?! Я принимаю снотворное, а мне в шесть утра бьют стекла!
— Очень нужен Фридрих, Дора Борисовна…
— Он спит! И никуда не пойдет!
— Разбудите его, а?
— Я говорю — он спит без задних ног! Он вчера примчался из Англии. Что ты улыбаешься? Тебе это шуточки?! Его вынимали из самолета по частям!
— Дора Борисовна, пожалуйста…
За спиной Доры Борисовны показывается Фридрих. Маленький мальчик Фридрих, ученик моего Алешки; мальчик, ставший довольно толстым и лысеньким папой, подающим надежды ученым, делегатом разнообразных конгрессов и съездов…
— В чем дело, братья?
— Одевайся — и к нам.
— А-а… Понял. Только, братья мои…
— Разговоры потом.
— Одеваюсь!
— Фридрих!.. — подземным голосом произносит Дора Борисовна. — Если ты разбудишь Гошу, пеняй на себя! Ну вот, уже разбудил! Гоша! Гоша!! Тебе кто позволил вставать?! Я кому говорю — стенке?
И в квартире на первом этаже начинается столпотворенье. Слышны голоса, грохочет мебель, стучат башмаки. Посуда зазвенела. Дверь хлопнула. Из подъезда, как выстреленный, вылетает Гоша, таща за лямку туристический рюкзак. Тотчас появляется и Дора Борисовна.
— Гоша! — кричит она. — Вернись. Я никуда тебя не пущу! Сейчас тебе будет так плохо, как никогда не было!
— Бабушка! — едва не плача, но в той же тональности вскрикивает Гоша. — Нет, нет и нет! Вы же знаете, я не уступлю!
— Вернись! Стой на месте!! Фридрих, держи его. Видишь, он взялся бегать, как на стадионе!
— И это взрослые люди! — задохнувшись от горя, кричит Гоша.
Смущенный Фридрих, уже одетый в тренировочный костюм и кеды, подходит к Доре Борисовне. Пухленькой ладонью гладит свою загорелую лысину.
— Бабушка, — сообщает он с запинкой. — По всей вероятности… я тоже пойду в этот поход. А почему не сходить?
— Конечно! — отвечает Дора Борисовна, вскидывая голову. — Тебе мало Англии. Тебе нужно свалиться в здешнем лесу. Ненормальный, у тебя нога и сердце! У Гоши такие гланды! Господи, а это что еще?! Зачем ты берешь удочку?!
— Рыбу ловить.
— Вот, вот. Чтоб свалиться в воду и утонуть. Я никуда вас не пущу! Я буду стоять в воротах, как вратарь.
Фридрих минуту раздумывает, затем говорит стеснительно:
— Бабушка, тогда мы полезем через забор.
— Не смей! Мальчишка!.. Нет, кончится тем, что я сама пойду в это поход. И буду держать вас за руки!
Константин Семеныч стоит, посмеиваясь; ему нравится, что он заварил такую кутерьму.
— Ну, Дора Борисовна!.. — говорит он, подливая масла в огонь. — Кандидата наук — за руку… Доцента!
— Растяпу! — заканчивает Дора Борисовна. — Он может стать профессором, но все равно будет растяпой. Доцент! До сих пор не может получить квартиру. Ты помнишь, была свадьба — и он спал под столом? Так он хочет дождаться новой свадьбы. Нет, это судьба: в нашей семье даже при коммунизме новобрачные будут спать под столом. Гоша! Иди домой, чтоб тебе пусто было!
— Бабушка, я не реагирую, — отвечает успокоившийся Гоша.
— Иди, я помогу вам собраться. Что вы напихали в мешок? Разве так укладываю вещи?
* * *
Как часто мы, старики, жалуемся, что не понимаем своих детей, хотя все-то мы понимаем, а жалобы наши давно сделались смешной и наивной традицией, вроде сетования на капризы погоды.
Мы обижаемся на детей, а у них подрастают свои дети. Поколения сменяются через двадцать пять лет, но за этот срок теперь и века сменяются: век электричества, нейлоновый век, атомный век… Торопится жизнь. И что-то уходит из нее, отмершее, ненужное, о чем нет смысла жалеть, а что-то сохраняется, передается из поколения в поколение. И когда видишь это, — нет сожаления и горечи, нет страха душевного. Да и не может быть… Вот о чем я подумываю сейчас, на своей скамеечке под полосатым детским грибом. Я не хочу соврать, мне не так уж весело сидеть здесь, смотреть, вспоминать, сравнивать; я и грущу, и поплачу втихомолку. Но мне хорошо.
Взрослые ушли со двора, собирают походное снаряжение. Остался один Гоша. Дежурит у подъезда. Руки за спиной, краем башмака вычерчивает на асфальте какие-то фигуры. Нет-нет, да оглянется, посмотрит на окна. Я догадываюсь, кого он ждет…
Вот наконец она появилась. Загадочное существо тринадцати лет, невероятная красавица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией, невероятная уродина с белобрысой челкой, с веснушками с копейку величиной, с голенастыми ногами в цыпках. Дочка монтера Веселова, Верочка.
— Привет.
— Тебе тоже.
— Сережку с Павликом не позвала?
— Сами придут, — говорит Верочка и поеживается, как отец. — Холодно еще… Дай куртку.
Гоша накидывает ей на плечи курточку, сам остается в трикотажной майке. И кожа на его руках покрывается пупырышками. Видела бы Дора Борисовна…
— Тебе отец из Англии чего-нибудь привез?
— Ага. Открыток целую пачку и вот, смотри, — транзистор.
— Барахло, — определяет Верочка, мельком глянув. — А матери привез чего-нибудь? Духи, например?
— Кажется, привез.
— Принеси посмотреть.
— Но как же я… Вера, мне же… Ну, неудобно…
— Тогда становись на голову. Ну?!
— Брось, Верк… Не надо…
— Сейчас же встань на голову!
— Увидят…
— Ах, так?!
— Ну, пожалуйста… — Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после нескольких неудачных попыток делает стойку. Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер.
— Кто главный? — спрашивает она.
— Ну, ты…
— Будешь слушаться?
— Я и так… уже… — пыхтит Гоша, стоя вверх ногами.
— Перевернись. И тащи духи. А то заставлю стоять на голове целый день!
Вытирая ладони о свою майку, Гоша топчется беспомощно, моргает. Верочка неумолима. И тогда, отдав ей транзистор, Гоша плетется к себе в квартиру.
А Верочка наугад нажимает кнопки на транзисторе. Крутит его, встряхивает, как градусник. Все-таки ловит какую-то станцию, слушает. Не понравилось, снова крутит.
И вдруг я вижу, как, подчиняясь неслышному мне ритму, Верочка начинает танцевать. Она покачивается, переступает, кружится — это собственный танец, ее отклик на музыку, прилетевшую невесть откуда. Узкий наш двор, наискось поделенный светом и тенью, спящие окна, спящие голуби на карнизах, мокрый, в лужицах, асфальт — и девчонка, танцующая как во сне, танцующая от естественного, беспричинного счастья…
Торопливые шаги на лестнице, голоса; выбегают на двор Сережка и Павлик, одноклассники Гоши. Тоже с рюкзаками, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой.
— Что, не собрались еще? Во тянут резину!.. Верка, а где рюкзак?
— Я так пойду. Налегке.
— Твой транзистор?
— Гошке отец подарил.
— Вещь!
— Барахло. Длинные и средние волны.
— Почему это?
— Будешь слушать один «Маяк». Вот, пожалуйста!.. — Верочка двумя пальцами поднимает приемник.
— А тебе что надо? Сказки слушать?
— Теперь и сказки пошли про химию да сельское хозяйство.
— Серая ты! — говорит Павлик. — Не понимаешь: эпоха науки.
— От этого любую науку возненавидишь. Что у вас за колбаса?
— Мещанка ты! Не трогай!
— Это ракета, — сообщает Сережка внушительно. — В лесу запустим.
— Ну вот, — говорит Верочка. — В лесу — ракеты. По телевизору — шестеренки показывают. В кино — спутники. По радио — удобрения. Не жизнь, а научная лекция.
— Темнота. Хоть будешь знать, как все делается.
— А мне неважно — как. Важно — для чего?
— Тоже узнаешь.
— А это и так всем известно. Между прочим, зря стараетесь. Не взлетит ваша колбаса.
— Притихни, — советует Павлик. — Не обнаруживай запасы ума.
— Хвостом в деревьях запутается. Для чего такой хвост?
— Для запуска, — опять внушительно сообщает Сережка. — Подожгем вот здесь — и взлетит. Через пятнадцать секунд.
— А если взорвется?
— Это в Америке взрываются. У нас исключено.
— Внутри кинопленка, — объясняет Павлик. — Она, как известно, взрываться не может. Только горит. Впрочем, тебе не втолкуешь…
Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно кладут ее на ступеньки подъезда. Говорит, морща нос:
— Вонища будет на весь лес. Очень приятно.
— Не желаешь нюхать, так не ходи.