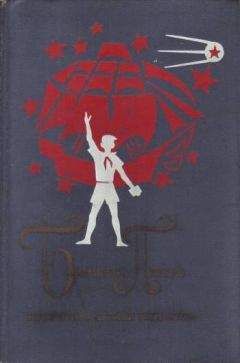Он вдруг так хорошо улыбнулся, будто ясно представил себе, что за славная девчурка была эта Устя Бирюкова, его старая знакомая, и он вспомнил что-то хорошее, одному ему про нее известное.
— Я вот и портрет ее разыскал. Видите, тут написано: «Партизанка Устинья». Это старая гравюра, неизвестный художник.
Он снял со стены портрет моего двойника, сдунул пыль со стекла.
— Тут дело не в том, что вы похожи. В вас есть какая-то внутренняя общность. Ну как бы вам объяснить попроще? Вы, мне кажется, характером похожи. Понятно?
— У нее тут лицо чистое, а у меня… встречаются кое-где веснушки, — сказала я, рассмотрев внимательно портрет.
— Насчет веснушек история умалчивает… Не вздумайте выводить. Уж позвольте мне за это отвечать… Так хотите стать Устей? Ну?
Он весело вскинул голову и заглянул мне в глаза.
— Это для кино меня будут снимать?
— Вот именно.
— А у меня выйдет?
— У нас с вами должно выйти. Только предупреждаю: на полгода надо с головой, с сердцем, с печенкой в это дело влезть, иначе ничего не получится.
Он стал расспрашивать меня, как я живу, где наши работают, как я успеваю в школе. Я послушно отвечала, стараясь все время повернуться к нему левой щекой, так как все говорили мне, что я с этой стороны лучше.
Я все боялась, что он вдруг раздумает и скажет: «Вот, я рассмотрел вас как следует, вы не подходите».
— А почему вас называют Сан-Дмич?
— А это просто для сокращения: Александр Дмитриевич. Все равно так слышится: Сан-Дмич.
— А вы сами играть будете?
— Непременно. Есть и для меня одна подходящая ролишка. Денис Давыдов, поэт-партизан. «Анакреон под доломаном», — так о нем Вяземский, друг Пушкина, писал. — Поэт, рубака, весельчак!..» Сейчас!
Он ловко прикрепил усы, надел кивер.
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер-чудо набекрень.
Это Пушкин о нем так сказал. А Языков добавил: «Наш боец чернокудрявый, с белым локоном на лбу». Про него даже Вальтер Скотт писал: «Блек каптэн» — черный капитан. И поэт это был замечательный.
— Мы его в классе еще не учили, — сказала я.
— Это поэт не из тех, которых учат. Он из тех, которых просто любят, помнят. Великолепный был малый, — добавил он вдруг очень просто и убежденно, — великолепный! «Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Вот Давыдов!» Это он сам о себе написал так в автобиографии. Правда, здорово?
Он вынул из стола большой портрет. Статный и пышный гусар был изображен там.
— Вот, знаменитый художник Кипренский таким его изобразил. А на самом деле он был вроде меня: курносый, маленький. И говорил писклявым голосом, хотя и старался басить. А как вы думаете, получится у меня? Он был адъютантом Багратиона, ну а у меня командир тоже неплох был… Я в гражданскую войну три года при Котовском состоял, с коня не слезал…
Тут стали входить разные люди. Появился опять высокий чернявый. Расщепей стал знакомить меня:
— Вот это Павлуша, Павел Иванович, оператор. Он вас сейчас попробует снять. Ну, с Ардановым вы уже знакомы. Это режиссер-лаборант, такой у него чин. А мы его просто для сокращения Лабарданом называем. Он не обижается… Верно, Лабардан?
Худой лысый человек со степенным, благообразным лицом, в белом халате, похожий на хирурга, подошел ко мне.
— А это наш гример, наш знаменитый Евстафьич… Павлуша, снимите пока ее так, без грима. Проверим, как на пленке получится.
Меня провели в небольшую комнату, где стояли большие зеркала и прожекторы. Павлуша, оператор, куда-то вышел на мгновение, а я, заметив, что на столике лежит коробка с гримом, схватила растушевку и для красоты — раз-раз! — быстро навела себе брови. Павлуша вернулся, ничего не заметил и усадил меня перед аппаратом. Явился Лабардан, они стали советоваться, как лучше меня снять.
— Меня снимать надо вот с этой стороны, мне так лучше, — предупредила я.
Жирный, вислогубый человек со смешным пучочком волос под носом заглянул в дверь, внимательно рассмотрел меня, пожал плечами и исчез. Но я услышала, как он что-то говорил за дверью. Послышался сердитый голос Расщепея:
— Слушайте, Причалин, не суйте вы в мои дела ваши рога и копыта!
— Однако вы же обещали племяшку мою еще раз попробовать, — громким, обиженным и слегка квакающим шепотом отвечал Причалин. — Каково девочке! Ночей не спит…
— Я делаю картину, а не семейный альбом. Это уж вы ими занимайтесь.
Павлуша и Лабардан слушали, перемигиваясь.
— Но я видел, там Павлуша снимает сейчас! — шипел Причалин за дверью. — Ведь это же… Как ни говорите, публика любит, чтобы было на что посмотреть. Нужен же шарм, как называют французы! Обаяние… Именно шарм…
— Крутите эту шарманку под другими окнами, может быть, вам и вынесут что-нибудь, а у моих дверей не шатайтесь. А не то, Причалин, будут вам гроб и свечи. Понимаете это?
Павлуша, оператор, и Арданов были в восторге.
— Наш Сан-Дмич сам мужик сердитый, — говорили они и кивали на дверь.
Но дверь открылась, и они стали очень серьезными. Вошел Расщепей.
— Что такое? — сразу заговорил он, вглядываясь в меня. — Что вы с собой сделали? Сыворотка из-под простокваши! Она брови себе навела! Кто вас просил? Кому это нужно? Где Причалин? Пусть порадуется… И что вы так надулись? Вы думаете, Устя должна быть зобатой?.. А ну-ка, сотрите ей ваткой!.. И не пыжьтесь, пожалуйста, сидите естественнее. Это еще что за штуки?
Подошел гример и ватой с вазелином стер мои злосчастные брови.
— Вот, Евстафьич, — объяснил гримеру Расщепей, — на Устю будем пробовать.
— Отлично, — сказал Евстафьич и вынул записную книжечку. — Это будет у нас, значит, проба номер семнадцать. Веснушчатость будем убирать, Александр Дмитрич?
— Ни-ни! За каждую конопатинку головой мне отвечаешь.
— Учтем. На подбородок слегка тон положить надо?
— Это твое дело. Клади.
Но сперва меня переодели. В тулупчике, повязанная большим платком, я сразу сделалась такой похожей на Устинью-партизанку, что смотреть на меня сбежалось много народу. Все ходили вокруг меня, разводили руками и поражались сходству.
Потом меня снова поставили перед аппаратом.
— Дайте свет! — крикнул Павлуша.
И свет, плотный, горячий, непроглядный свет залил меня с головы до ног. Он жег щеки и слепил глаза. Он, казалось, лез в рот, я захлебывалась светом.
Перед самым моим носом Лабардан громко хлопнул одной черной дощечкой о другую. Я успела заметить, что на одной доске было начерчено мелом: «№ 17».
— Не морщиться, не морщиться!.. Вот так, повернитесь вправо. Засмейтесь теперь. Сено-солома, что вы так перекосились? Зубы у вас болят, что ли? Всем лицом смеяться надо, а не только ртом. Почему глаза не участвуют? Где глаза?
Я ничего не видела. Сплошная стена молочного обжигающего света стояла передо мной, и все голоса были по ту сторону стены и с трудом проходили сквозь нее.
— Который час? — услышала я вдруг голос Расщепея. — Милые мои! Мне же натуру надо ехать смотреть. Я с директором сговорился. Ну, вы чтоб тут без меня… Когда кончите, отправьте домой. Позвоните в гараж, машину вызовите.
— МБ 56–93, — сказала я.
И, осмелев, я рассказала, для чего мне понадобилось запоминать номер и как я боялась, когда ехала в машине. Все кругом захохотали… и внезапно стало очень темно. Выключили свет. Разом потухли все прожекторы. Погасли слепящие угли. Только там, на дне ламп, в зеркальных гранях еще тлели, остывая, красные точки. Сперва я ничего не могла разобрать в желтой темноте, а потом пригляделась и увидела, что Расщепея уже нет в комнате. И мне показалось, что это он унес из комнаты весь свет. Мне вдруг снова стало очень страшно.
— Теперь эпизод попробуем, в действии. Лады? — сказал Лабардан. — Слушай внимательно. Ты представь себя крепостной девушкой, и вот ты…
Он что-то говорил мне, но я плохо слышала его. Мне казалось, что режиссер, увидев, что я не гожусь, нарочно бросил меня здесь одну, и все вокруг меня были какие-то желтые, сумрачные, и трудно было поверить, что тут сейчас бряцал, сверкал и куролесил веселый гусар. Я сразу словно отупела. Долго бились со мной Павлуша и Лабардан. Я старалась вслушиваться, выполняла их указания, двигалась, как они велели, но сама слабо соображала, зачем я делаю все это.
— Ну, устала, видно, — пожалел меня наконец Павлуша. — Поезжай домой, отдохни. Завтра видно будет.
Меня вез обратно уже знакомый шофер. Он утешал меня:
— Что? Не пришлась впору?
— Они «до завтра» сказали.
— Всем так говорят — до завтра. Чтобы сразу, тычком не оглушить, подготовляют сперва… И видят ведь сразу, что не подходит. Нет, гоняют зря машину. А бензина нет. Бесхозяйственность!