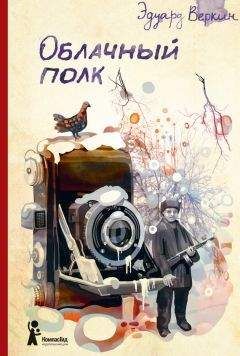– Половину домой относил, половину сам. Съешь сметану – спать хочется, лучше всего в сушилке, там деревом пахнет и клеем… А можно и на хлеб поменять на базаре. Или на леденцы. У нашего цеха в столовке свой стол был, отдельный, ешь и на мост смотришь… Ты рыбу любишь ловить?
– Нет.
– Ну и дурак. Рыбалка – это… Ну, не знаю. Рыбу только надо жарить правильно, обязательно с луком…
Саныч рассказывал, как правильно печь в золе окуней. Как потом их есть, сдирая сразу вдруг всю шкуру, как вместе с рыбой можно закинуть в золу картошку – она получается удивительно рассыпчатая и сладкая. Как варить раков – их полно в ручьях, а можно замариновать миног, но они не всем нравятся, у них привкус. Как искать по берегам рек земляные яблоки, а потом их надо, конечно, томить под ведром…
От этих историй хотелось есть еще сильнее, но остановиться было трудно. Саныч глотал слюну и рассказывал, как два года назад бомбой убило гуся, и они зажарили его на вертеле, и ему досталась целая ножка; а я вспоминал и рассказывал про грибы, про бабку из августа, которая запекала грузди со сметаной и с зеленым луком, про чеснок, жаренный в муке, только у меня хуже получалось. Я не умею хорошо рассказывать, по пути начинаю стесняться, мне кажется, что я выгляжу глупо и говорю неправильно. А Саныч нет, не стесняется. Иногда я его с пластинкой путаю: просыпаешься от пластинки, а оказывается, это Саныч рассказывает Щурому про гранаты. Чем они отличаются да как правильно их кидать – можно боком, а можно по дуге. А уж когда Саныч про еду запускается… Просто Гоголь. Само собой, особое вдохновение на Саныча нисходит по голодухе.
А сегодня Саныч что-то особенно разошелся: пел про праздничные октябрьские пельмени с тремя мясами и про вареники с творогом и сметаной, животы от этого урчали почти уже неприлично, а слюны получалось так много, что приходилось ее то и дело сплевывать. А Саныч не унимался, плевался злобно и рассказывал, что однажды он наловил стерляди, и мать сварила уху такой густоты, что от нее отскакивала железная ложка…
На стерляжьей ухе не выдержал гад, тоже забурчал.
Саныч остановился.
– Ты чего бурчишь, сволочь? – спросил он.
Тот промолчал, съежился только сильнее. Такой нестрашный вроде бы, человек вроде бы.
– Ты, сволочь фашистская, я тебя, кажется, спрашиваю?!
– Ничего… – негромко ответил гад.
– Что, сволочь, фашисты тебя плохо кормят?! А?!
Саныч подскочил к гаду, пнул его под коленки, дернул за мешок, сорвал. Гад упал в грязь, остался лежать.
– Ты своим фашистским брюхом на мою жратву не булькай! Понял?!
Саныч пнул парня в бок. Гад ойкнул, укрыл голову. Лучше бы он молчал, потому что ойканье разозлило Саныча еще сильнее, он влепил парню еще несколько пинков, и в этот раз гад звуков уже не подавал, только ребра трещали и вода в разные стороны брызгала.
Опасно. Нет, руки мы ему перемотали хорошо, и виду гад тоже не богатырского, но кто его знает… Все же он старше нас. А если у него финка где спрятана – по-хорошему так ведь и не обыскали; перережет веревку, выхватит, прыгнет…
Саныч отступился от гада, достал пистолет, протянул мне.
– Давай, – он кивнул.
– Да я… Не так как-то…
Не так. Я совсем не так представлял своего первого фашиста, по-другому. Он побежит на меня с озверевшим лицом и с железными зубами, а я прицелюсь в брюхо, как наставлял Саныч, в брюхо лучше всего, чтобы кишки поплыли.
Совсем не так.
– Ты же хотел, – сказал Саныч с удивлением. – Сам же говорил… Что же теперь?
Я пожал плечами. Надо было сразу, там, у дороги. А сейчас… Со связанными руками…
– Потом, может?
– Потом… – Саныч покачал головой. – А он бы не стал откладывать. Правда, герр полицай?
Гад что-то пробулькал в ответ.
Саныч вытер подбородок рукой с пистолетом.
– Ты же сам читал, помнишь? Если ты не убьешь…
Он почесал лоб рукоятью ТТ, вспоминая. То есть делая вид.
– А я помню, – сказал Саныч. – Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину…
– Так это не немец ведь, – глупо ответил я.
– Это еще хуже, – брезгливо сказал Саныч. – В сто раз хуже, это настоящее дерьмо. Это же предатель. Отродье.
Саныч еще несколько раз ударил гада, целил в живот и попал – теперь предательское туловище издавало уже хлюпающие звуки. Мне показалось, что Саныч не очень старался, устал он.
Я тоже устал. Сегодня, наверное, уже километров двадцать прошлепали, и всё по грязи да по мхам. Ноги отваливались, пинать никого не хотелось, пусть и предателя, ноги не деревянные.
– Вот так вот… – Саныч плюнул на спину гада. – Сейчас я его…
– Не надо, – сказал я.
– А почему не надо-то? – злобно спросил Саныч. – Какая разница, а? Мы его вообще зря поймали, вот я что думаю. Сгоряча, по дурости моей. Толку от него никакого…
Саныч ткнул гада ботинком, спросил:
– Ваши в Песках что сделали, а? Что сделали, спрашиваю? Там же земля еще день дышала! И там ведь не немцы…
– Я там не был! – выкрикнул парень. – Не был!
Саныч рассмеялся.
– Все предатели всегда одно и то же талдычат, – сказал он. – Нас там не было, мы только вагоны разгружали… Никто никогда не виноват. А это не так.
Саныч поглядел на меня, я помотал головой.
– Ладно, если ты не хочешь, тогда я сам его…
Гад завыл. Забился, старался подняться на колени, прощения хотел, а мордой все время в лужу валился и башкой тряс как дурной.
– А вдруг он что-то знает? – предположил я. – Ценную информацию?
Нет, мне этого предателя совсем не жалко. Но… На самом деле, надо было сразу, а теперь-то что уж?
– Ничего он не знает, шестоперый же, видно, сортиры у немцев драил – вон руки какие красные.
– Я знаю! – прохрипел гад. – Знаю! Я расскажу!
– Заткнись лучше, – посоветовал Саныч. – Не хочу я твои рассказы слушать, у меня и так язва начинается…
– Котомки у нас тяжелые, – сказал я. – Всю шею ломит…
И вправду ломит, лямки то и дело скручивались и врезались в плечи, полупустая котомка казалась пудовой, и я подумал, что неплохо перегрузить ее на фашиста. А что? Пусть тащит, хоть шерсти клок.
– Я потащу! Потащу!
Предатель попался догадливый, завозился в луже, Саныч не вытерпел, прихватил его за шиворот, поставил на ноги.
– Я потащу! Потащу!
Саныч поглядел на меня, я кивнул. Мы навесили котомки на предателя.
– Потом пристрелим, – зевнул Саныч. – Никуда не денется. Давай, фашист, двигай!
Живот у предателя снова забурчал то ли от страха, то ли от голода, но громко.
– Так ты, значит, гадюка, тоже жрать хочешь? – неприятным голосом спросил Саныч. – Проголодался, бедняга… Вот фашистская сволочь – его чуть к стенке не прислонили, а он о жратве думает.
Саныч вытащил нож, протер его о рукав.
– Плохо фрицы предателей кормят… Наверное, мало стараетесь. Надо вам больше вешать…
– Да не участвовал я! – выкрикнул гад. – Не участвовал! Это каратели!
– Ага, – равнодушно перебил Саныч. – Ты уже говорил, ты склад охранял, знаем. Охраняя склад, ты аппетит нагулял, я тебя сейчас накормлю… Стой смирно!
Предатель вытянулся, Саныч наклонился и отрезал кусок голенища у него с сапога.
– Слышь, Мить, а сапоги-то у полицаишки яловые. Хорошие, у меня батя на такие полгода копил, да все равно не купил. А у этого есть уже!
– Давай поменяемся! – неосторожно предложил предатель.
Зря это он. Саныч уже начал успокаиваться, а тут опять рассердился.
– Ты что, думаешь, что я твои фашистские сапоги возьму? Не, ошибаешься, дружок. Я их не возьму, я их тебя сожрать заставлю. Давай, жри.
Саныч сдернул с предателя мешок, отвесил затрещину, срезал кусок голенища и сунул гаду в рот.
– Жри.
Предатель выпучил глаза.
– Жри давай, – приказал Саныч. – Жри, не зли меня, я и так весь нервированный.
Он огляделся, выбрал поваленную осину, уселся на нее.
– Отдохнем немного. – Саныч вытянул ноги. – Митька, садись, кино посмотрим…
Я уселся рядом. Тоже ноги вытянул, пальцами пошевелил.
– Про Чарли Чаплина видел, фашист? – спросил Саныч. – Он там ботинок жевал? Вот и ты жуй. Жуй, считаю до трех.
Предатель стал жевать.
– Веселей, веселей, – подбадривал Саныч. – Раз-два, раз-два…
Предатель старался: изо рта у него торчал гладкий лоскут, как черный язык, длинный, неприятно пошевеливающийся, точно живой. Некоторое время я смотрел, потом отвернулся, закрыл глаза.
Саныч не мог остановиться, велел пережевывать пищу тщательней, чтобы извлечь из нее все питательные вещества, я старался не слушать. Со мной давно уже так – точно выключаюсь. Вот лампочка светит, а вот электричество кончилось. И сразу как-то – щелк. Сначала вроде чувствую – вот предатель, вот он гад, в руках злость начинает пошевеливаться… И все, пустота, как батарея садится.
– Вкусно? Вижу ведь, что нравится. Кушай, кушай на здоровье…
Треск. Недалеко совсем дятел, кажется. Почему-то на юг не улетел… Или они не улетают? Ладно, этот не улетел, теперь в дерево долбит. Очередями. Интересно, птицы войну чувствуют? У нас тут мир перевернулся, а им все равно, наверное, летают туда-сюда, как тысячу лет назад летали, и ничего для них не изменилось. Только лучше стало: раньше люди на них охотились, а теперь друг друга бьют. В этом году уток много должно быть…