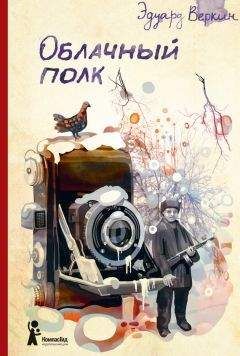– Вкусно? Вижу ведь, что нравится. Кушай, кушай на здоровье…
Треск. Недалеко совсем дятел, кажется. Почему-то на юг не улетел… Или они не улетают? Ладно, этот не улетел, теперь в дерево долбит. Очередями. Интересно, птицы войну чувствуют? У нас тут мир перевернулся, а им все равно, наверное, летают туда-сюда, как тысячу лет назад летали, и ничего для них не изменилось. Только лучше стало: раньше люди на них охотились, а теперь друг друга бьют. В этом году уток много должно быть…
– Смотри-ка, подавился!
Саныч сказал это с таким детским удовольствием, что я очнулся и поглядел на предателя. Тот, кажется, на самом деле подавился – покраснел, рожа сделалась цвета брюквы, глаза выпучились, слезы потекли.
Предатель замычал, задергался, пытаясь развязать руки.
– Притворяется, – плюнул Саныч. – Видно же. Что, гадина, не нравится? А мы в сорок первом в лесу ежей жрали! Когда вы нас из домов повыгоняли! Давай, шкура, глотай сапоги!
Сапоги не глотались. Предатель упал на колени в жижу, стал задыхаться.
Молодой еще предатель, белобрысый, через грязь видно. Наверное, из кулацкой семьи. Или чухонь какая с пограничья. Они нас давно не любят, как фашисты пришли, обрадовался, побежал к своим…
А какая разница? Кулак, чухонец… Кто он, почему в полицаи записался, это уже неважно.
– Ладно, хватит прикидываться, – велел Саныч. – Надоел.
Предатель прикидываться не прекратил, более того, упал в лужу и начал трястись, как током его приконтачило, похоже очень.
– Ах ты черт…
Саныч вскочил с дерева. Схватил предателя за шкирку, выволок из лужи, с размаху ударил по спине кулаком. Еще раз, с усилием, мощно. Изо рта фашиста вылетел плотно сжеванный черный комок, парень вздохнул и заревел. Саныч отпустил его.
– Докатился… – Саныч брезгливо вытер руки. – Спас предателя, да уж… Придется потом восемь других прибить для равновесия. Ладно, пора двигать, рассиделись. Вставай!
Полицай поднялся. С четвертого раза. Он покачивался под тяжестью котомок, дышал тяжело и продолжал выплевывать черные куски.
– Не впрок сапоги пошли, – заключил Саныч. – Ничего, привыкай. Хенде хох, шпацирен геен. Туда, туда, вон к той березе! И песню давай. Песни-то какие нефашистские знаешь?
Предатель песен не знал, поэтому двинулись мы молча. Мешок надевать не стали, потому что лес был совершенно одинаковым, солнце сквозь облака не проглядывало, дорогу не запомнить. Я совершенно потерялся, шагал себе послушно за Санычем, который пробирался уверенно, как по шоссе. По каким приметам он определял путь, я понять не мог. Наверное, он знал каждое дерево в лицо. Есть же люди с фотографической памятью: утром увидят газету в ларьке, вечером лягут в раскладушку и читают по памяти…
Где-то часа через полтора мы выбрались к нужному месту.
– Ага, – сказал Саныч. – Вот и прибыли. Почти по расписанию…
Старица. Рябины много по берегам, смородины, ручей впадает, а к реке тянется тощая протока. Позавчера с утра под смородиной расставили верши, пять штук, целую неделю по вечерам вязали – после разлива в старицу должно нанести рыбы: налимов, и щурят, и язей, и теперь Саныч собирался наварить всему отряду ухи. Только вынуть оставалось.
Саныч с интересом поглядел на гада.
– Тебя как зовут, а, фашист?
Теперь ясно окончательно. Почему он гада не шлепнул, не дал ему подавиться и сам его не удавил. В очередной раз убедился, что Саныч вперед видит на восемь ходов, может быть, он и гада этого прихватил только для того, чтобы сейчас его в старицу загнать. Саныч стрелок, а на дороге два раза смазал, подряд смазал, теперь вижу, что не случайно.
– Чего, фашист, молчишь?
– Паша, – ответил гад.
У нас в классе был Паша, у него верхние зубы вперед выступали. У этого с зубами нормально, нормальный вроде, и имя человеческое.
– Паша… – Саныч задумался. – Знавал я одного Пашу на фанерной фабрике, редкостной тварью был, на всех барабанил напропалую. Ничего, коллектив его перевоспитал. Паша… Давай-ка, Паша, скидывай фуфайку. И не дергайся.
Саныч разрезал веревку, стягивающую Пашины руки.
– Повезло тебе, фашист Паша, целых два раза. Первый раз, что осень сейчас, второй – что даже Митька тебя шлепнуть не хочет. А между прочим, мы вышли специально для этого – чтобы Митька снял своего первого фрица. А теперь придется ему еще неизвестно сколько мучиться…
Я тяжко вздохнул.
– Так что ты, Паша, уж его не расстраивай окончательно, – посоветовал Саныч. – Давай, раздевайся.
Предатель стал стаскивать фуфайку. Это у него не очень получалось: фуфайка намокла и слезала плохо, да он и не старался особо, а может, руки у него плохо действовали, затекли, запястья распухли. Но снял, скатал, положил на кочку. Под фуфайкой оказался свитер, его Паша стащил и тоже свернул очень аккуратно. Майка. Рваная, с дырьями, синюшные тощие руки, он обнял ими плечи, смотрел пусто и безразлично. Трясся, уже не дрожал.
Саныч плюнул под ноги.
– Хилый фашистик попался, – сказал он. – Расклеился весь, стружка полезла, тьфу, противно. Пошлешь его за вершей, так сдохнет. Назло ведь сдохнет, по харе его вижу…
Саныч поглядел на меня.
– Я могу слазить, – сказал я. – Там ведь неглубоко, кажется.
Это справедливо. Саныч верши ставил, в воде мок, а я на берегу сидел, ждал, теперь наоборот. Я стал раздеваться. Ну, буду чуть мокрее, чем раньше, тут до отряда уже недалеко, не растаю.
– Погоди, – помотал головой Саныч.
– Что?
– У тебя ведь воспаление легких было недавно?
– Так это когда…
На самом деле давно, в прошлом году, или давнее, или… Откуда он знает, интересно, я вроде никому не рассказывал. А может, и рассказывал.
– Лучше я сам слажу, – сказал Саныч. – Я в октябре купался однажды на спор – и ничего. А дед мой зимой в прорубь нырял…
Сейчас еще про подковы скажет.
– И гвозди лбом забивал, – вместо этого сказал Саныч. – А я так не умею. Ладно…
Саныч разоблачился по-военному быстро, до черных трусов. Велел мне приглядывать за Пашей, пистолета с него не сводить, если что – стрелять насмерть, чтобы потом не возёхаться. Хотя можно было и не предупреждать – этот Паша расквасился до такого состояния, что даже сидел с трудом, все на бок завалиться стремился.
Саныч ухнул, полез в воду, размахивая руками и крякая. Значит, у него в отношении этого Паши другие планы, кто его поймет вообще…
Я привалился к тоненькой рябине, качался на стволе, срывал горстями, разбрасывал по сторонам, рябина такая уж ягода, ее всегда хочется разбрасывать, в руках не держится. Паша трогал голову, Саныч шагал вдоль берега, матерился, скрежетал зубами, ойкал от холода, прощупывал дно под корягами. Почти сразу достал первую вершу. Пустую, Саныч выкинул ее на траву, сказал, что со второй повезет больше.
Но со второй тоже не повезло, она расплелась, и рыба, если и попалась, то сейчас благополучно улизнула. Третья верша оказалась заполнена грязью и спящими пиявками, четвертая шла туго. Саныч стучал зубами и ругался все страшнее, изобретая затейливые проклятья на голову фашистов, полицаев, предателей и прочей сволочи, которая из нор вдруг понавылазила, как мухоморы в июне, аж в глазах рябит, но ничего, мы ее законопатим скоро, да так, что только брызнет в разные стороны…
Саныч старался, мял тяжелую осеннюю грязь, волок вершу на берег, и я уже видел, что с этой повезло: черная вода кипела живьем, улов был. Я зачем-то попробовал рябину, кислая, не успела сахару набраться, подождать до ноября, до первых заморозков, тогда и есть можно.
Саныч зарычал, напружился, выкинул вершу на берег.
– Вот! – Саныч присвистнул. – Третий раз забросил дед невод…
Верша была заполнена рыбой. Мальками, длиной, может, в половину пальца, цвета хорошо начищенной латуни.
Саныч плюхнулся рядом с вершей. Синий, измазанный грязью, по коже мурашки, выглядел зло и опасно, по-боксерски. У нас в Доме пионеров боксеры тренировались, так вот они все такими были – вислоплечие, сбитые, крепкие, как медведи, только Саныч все равно с любым из них бы справился.
– Раньше холодной водой дураков лечили, – сообщил Саныч и стал, не снимая, выжимать трусы: подтягивал их повыше, скручивал, почти до подбородка дотянул, у меня такие же. – Многие вылечивались. Может, фашистов тоже так, а?
Фашист Паша промолчал.
– Потом попробуем, – пообещал Саныч. – Со льдом уже. Вообще, я гляжу, с фашистом лучше на рыбалку не ходить – ничего не наловишь – рыба вонь даже из-под воды чует, в глубину прячется. С фашистом хорошо раков ловить – они любят, чтоб потухлее. А куда эту шантрапень девать, не знаю, ни ухи из нее, ни жарехи, стыдно домой возвращаться, Ковалец задразнит, собака злая… Что с такой рыбой делать…
– Засушить, может? – предложил я. – А потом в муку перемолоть.
Я что-то про рыбную муку слышал, вот и предложил.
– Не знаю, – Саныч поморщился. – Чего тут сушить, сплошной малек, шибздицы, чешуи больше, чем мяса… Зря только мерзли. Из-за тебя все, сволочь…