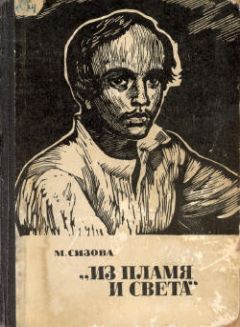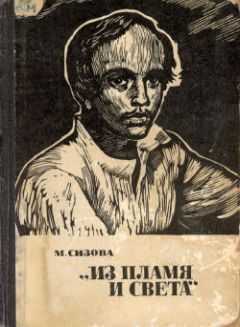Когда он отнял руки от лица и посмотрел вокруг, уже неслись снова пестрые пары, скользя по паркету, опять гремела музыка с высоких хоров, и молодой адъютант, сообщивший страшную весть, кружился под упоительный вальс со своей дамой.
Лермонтов увидел пробиравшихся к нему через толпу Краевского и Святослава Афанасьевича и почувствовал, как Раевский крепко сжал его руки.
Но он выдернул свою руку.
— Оставь меня! — почти прокричал он. — Оставьте меня все!..
И под обстрелом удивленных, насмешливых и надменных взглядов сбежал с лестницы, схватил из рук швейцара шинель и, наскоро набросив ее на плечи, убежал в зимнюю ночь и там, в одиночестве, крикнул с отчаянием в темноту:
— Он ранен!..
Редко кто из жителей Петербурга не знал небольшого дома на Мойке с окнами, обращенными на канал, с подъездом под сводами ворот — дома, где жил Пушкин.
Вихри снега, подхваченные метелью, пролетали в тот вечер над его кровлей и бились в большие окна, где передвигались то темные фигуры людей, то огонек свечи, поспешно зажигаемый чьей-то рукой и так же поспешно исчезавший. Дверь подъезда беспрерывно открывалась, принимая и выпуская посетителей. Они входили и, пробыв несколько минут, возвращались, убитые горем.
Пробегали по лестницам обитатели дома, и плакал в углу прихожей старый слуга.
Перед дверью кабинета затихали, обрываясь, шаги и смолкали вопросы. Сюда входили с ободряющим видом, а уходили с отчаянием в сердце.
* * *
Лермонтов остановился перед подъездом, не решаясь войти. Увидел двух посетителей, выходивших на подъезд, услышал, как один сказал другому:
— Боже мой, боже мой, за что же так мучается человек?!. Как его надо было беречь!..
— Доверчив был Александр Сергеевич, — мрачно ответил другой. — Такие люди раз в пятьсот лет родятся.
— А у нас его травили!
Двое сошли со ступенек.
— Вы — домой?
— Нет, я пойду поброжу по улицам. Я никак не могу собрать своих мыслей… Не могу поверить, что Пушкин… наш Пушкин, который еще вчера… Нет, не могу!.. — оборвал он себя и, подняв воротник, спрятав в него лицо, зашагал в снежную мглу.
Лермонтов хотел остановить их, спросить, но, передумав, решительно подошел к подъезду.
— Войду и узнаю сам, — сказал он вполголоса самому себе и посторонился, пропуская высокую даму в черном, с седыми буклями над еще прекрасным лицом и Арендта, придворного врача.
— Неужели же, неужели нельзя помочь? — со слезами в голосе спрашивала дама.
Знаменитый врач без слов покачал отрицательно головой.
— Но вы врач!
— Да, — сказал он печально. — Увы, я только врач… Меня ждут во дворце, но, если разрешите, я довезу вас.
Он с удивлением посмотрел на преградившего им дорогу невысокого роста гусара, который с непокрытой головой стоял, держа кивер в руке. Гусар обратил на знаменитого доктора огромные глаза и тихо спросил:
— Скажите мне, ради бога, его рана опасна?.. Смертельна?..
— Весьма возможно.
— Но в чем опасность? В чем?.
Доктор секунду подумал и твердо ответил:
— И в месте ранения и в потере крови.
Он подал руку даме в черном, но гусар приблизился еще на шаг и, уже глядя не на доктора, а на прекрасное лицо седой дамы, шепотом спросил:
— Но все-таки есть надежда?! Не правда ли? Надежда есть?..
Наступила пауза, потом седая дама, взглянув в темные глаза странного гусара, сказала медленно:
— Ни-ка-кой!..
— Разрешите? — сказал доктор, вторично предлагая ей руку. Стук колес их кареты, заглушённый глубоким снегом, уже давно смолк за мостом, а Лермонтов все еще не двигался. Потом он отошел в темный угол у подъезда и заплакал, прижав голову к стене. Никто не слышал, как он бормотал невнятно:
— Погиб… Погиб поэт! Дивный гений угасает…
— Мишель! — раздался у ворот громкий голос, и Раевский быстро подошел к неподвижной фигуре, прижавшейся к стене. — Я так и знал, что ты здесь! Меня сани ждут… едем домой!
— Оставь меня, Святослав Афанасьевич, я один вернусь.
— Мишель, ты все равно ничем ему не поможешь…
— Но я хочу сказать за него! Какими словами, не знаю, но должен это сделать! Хочу сказать так, как сказала бы вся Россия, — все светлое, что в ней есть!
— Да ты хоть кивер-то надень! — Раевский взял из его рук кивер и надел на его голову. — С ума сошел! На такой вьюге с непокрытой головой! Поедем, Мишель!
— Нет, нет! Я побуду один. Я похожу немного.
Сани отъехали. В окне, обращенном на канал, погасла свеча. Ветер проносил в темноту охапки летящего снега, а Лермонтов все смотрел и смотрел на окно, за которым умирал Пушкин…
* * *
И толпа все стояла в ожидании перед небольшим домом на Мойке, куда весь день и всю ночь входили люди. Лермонтов не знал, сколько прошло времени до того часа, когда он снова подошел к этому дому, сколько прошло часов до той минуты, когда в раскрывшемся окне он увидел Жуковского и услыхал его голос, внятно раздавшийся над толпою:
— Александр Сергеевич Пушкин… скончался…
Тогда бесчисленные руки поднялись к шапкам, и головы медленно обнажились.
* * *
Лермонтов возвращался к себе на Садовую поздно ночью. Он шел, не видя ничего, и сердце его горело от гнева и горя. Никогда еще он не ощущал с такой силой жажды борьбы с тем черным и страшным, что его окружало, и никогда не видел так ясно, что у него в руках есть верное оружие — его поэтическое слово.
Он помнил, что был потом у гроба великого поэта и поцеловал руку, ледяными пальцами сжимавшую маленький золотой образок. Потом он сидел за своим столом, лихорадочно записывая и словно оттачивая шедшие прямо из сердца горькие, гневные строки. Не ладилось со строки «Его убийца хладнокровно…». Он менял слова, зачеркнул шесть строк, потом еще пять, в одной из которых называл Пушкина «певцом Кавказа» (ему показалось, что он обедняет этим образ великого поэта).
А потом… потом он лежал на диване в своем кабинете и бредил, широко открыв глаза.
В тревоге бабушка послала за Арендтом.
— Не давайте ему стрелять! Не давайте!.. — кричал ее внук в бреду.
Затих он только к утру. Знаменитый врач осмотрел его, сказал, что ему нужен полный покой, и, усевшись в кресло около больного, пристально вгляделся в его лицо.
— Я вас узнал, — сказал он, помолчав. — В вечер роковой дуэли вы приходили к дому поэта.
— Да, я был там, как и десятки тысяч людей.
Арендт опять помолчал.
— По городу ходят стихи на смерть Пушкина. Прекрасные стихи. Они читаются всеми, и даже я запомнил их первые строчки:
Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой…
Он покачал головой и, взглянув на Лермонтова, который сурово молчал, добавил:
— Ваше горе мне понятно, но не поддавайтесь слабости, мой молодой друг. У вас сильное нервическое потрясение… Постойте-ка!.. — вдруг оборвал он себя. — Я слышал, что это прекрасное стихотворение, облетевшее весь город, написано каким-то гусаром. Фамилию автора я не запомнил, но сейчас я подумал, что она похожа на вашу. Это вы?
Лермонтов молча кивнул головой.
— Грозное стихотворение, молодой человек. Оно взволновало меня глубоко. Оно достойно того, кому посвящено. А теперь, дорогой, вам нужно возвращаться к жизни. Она никого не ждет и зовет нас всех к нашим обязанностям, в том числе и меня.
Знаменитый врач пожал руку больному и уехал.
* * *
Дядюшка Николай Аркадьевич Столыпин вошел в кабинет Лермонтова с самым беззаботным видом, покручивая в руке лорнетку.
— Заехал, mon ami,[38] навестить тебя. Говорят, ты болен?
Лермонтов не любил этого великосветского франта.
Он ответил ему холодно:
— Садись и расскажи, какие новости.
— В свете, конечно, все говорят о Пушкине. Государь так благосклонен к его семье! Назначил большую пенсию и Пушкину простил его вину.
— Как ты сказал? Простил вину? Это какую же?
— Ты еще спрашиваешь!.. Дуэль, конечно!
— Ах, вот что!..
— Послушай, Мишель. Я считаю своим долгом предупредить тебя. Последние плоды твоей музы кое-кому очень не понравились. Ты меня понимаешь?.. Мне передали об этом люди, которым нельзя не доверять.
— Ну и что же?
— Милый вопрос! В моем присутствии стихи твои о смерти Пушкина были переданы двум сенаторам. И они были разгневаны!
— И вполне естественно!
— Погоди! Это еще не все. Ими недоволен и государь.
— Государь?
— Да. Ты, mon cher,[39] так сказать, апофеозируешь значение покойного сочинителя. А он был весьма вольных мыслей и очень злые эпиграммы писал. Но государь великодушен.
— Ну еще бы! Он и Дантеса тоже простил!