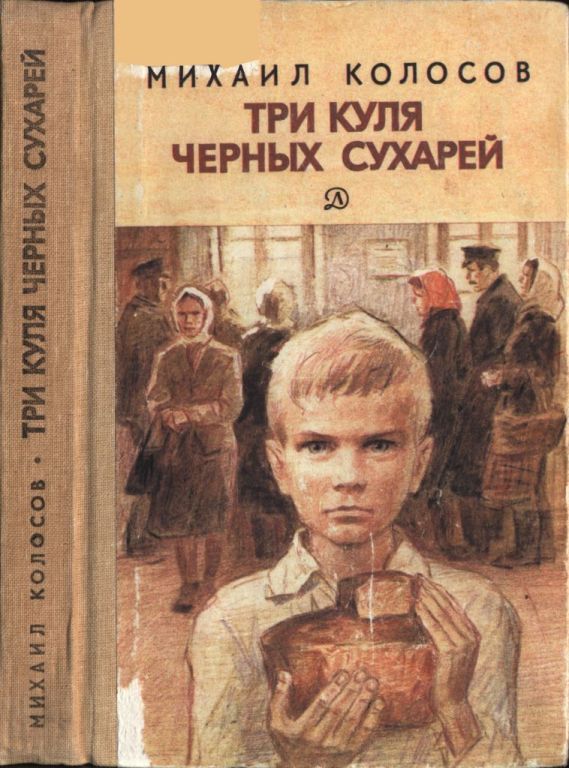провожая глазами свои стихи, которые запихивались в ребринскую сумку.
В тот же вечер Васька сидел дома над чистой тетрадью, отведенной им специально для стихов, и думал, о чем бы сочинить стих. Но, к сожалению, ничего не придумывалось. И тогда он стал вспоминать, о чем еще не писали поэты. Оказалось, они все уже воспели и Ваське ничего не оставили. Но это его не обескуражило, и он вывел красиво заголовок: «Зимнее утро».
Зимнее утро. Кругом тишина стоит.
Ни птица, ни зверь не летает…
Изредка лишь паровоз просвистит
Да Карпова собака залает…
Стихи Ваське понравились, хотя во второй строке было что-то явно не то. Но он не стал мучить себя поисками слова, понес сочинение матери — похвастаться. Та взглянула на тетрадь, спросила:
— Выучить задали?
— Не… Сам сочинил.
— Сам?! — удивилась мать и прочитала стихи. — Складно, — сказала она. — Молодец. Это такое задание вам дали — стишки сочинять? У нас такого не было.
— Да нет, я сам…
— Сам… — Мать повертела тетрадь. — Ты сначала уроки выучи, а потом уже сочиняй. Время тратишь на пустое: кому оно надо — про Карпову собаку написал. Интересно, што ли?
Васька отобрал у матери тетрадь и, огорченный неподдержкой, сунул ее в самый низ под стопку книг.
В числе других Ребрина назначила Ваську дежурным у церкви во время всенощной. Без каких-либо опознавательных знаков — без повязок — они пришли в церковь с видом обыкновенных прихожан и быстро смешались с толпой верующих, как и было заранее намечено планом Ребриной.
Васька с трудом протиснулся в середину, взмок весь и остановился, чтобы передохнуть. Задрав вверх голову, он по люстрам, как по звездам, определил направление и двинулся дальше. «Пропустите…» — то и дело шептал Васька в спины стоящих. Кто пропускал его, но большинство шикали на него, обзывали «хулюганом», если он слишком напористо продвигался вперед.
Пробравшись в первые ряды, Васька окинул стоявших — все незнакомые. Кругом горели свечи, сверкало золото в окладах икон и стоял приглушенный гул, шедший откуда-то сверху, из-под купола.
Алтарь от общего зала был отгорожен золоченой решеткой, калиточки в ней были закрыты. Закрыты и «царские врата» — служба еще не начиналась. Какие-то дядьки с благостными лицами, с приглаженными бородками и прилизанными волосами мягко ходили вдоль алтаря, поправляли свечи в подсвечниках, переговаривались вполголоса, будто при покойнике. Один из них заприметил Ваську, несколько раз взглянул на него, не выдержал, подошел к нему и прошептал на ухо:
— Ты с кем здесь, мальчик?
— А что? — Васька хотел обидеться на дядьку — маленький он, что ли, сам не может в церковь прийти? Но тут же сообразил: у всех в руках узелки с куличами, яйцами, творогом — святить принесли, а он стоит с пустыми руками, и всем ясно, что пришел он сюда не по делу.
— Иди на улицу, мальчик, — сказал дядька, — тут тебе делать нечего.
— А что, и посмотреть нельзя?
— Иди, иди, — тем же шелестящим шепотом повторил дядька и посмотрел Ваське в глаза. Маленькие, кругленькие, как у мышки, глаза его сидели в глубоких глазницах и сверкали злобой. — Иди… А то возьму сейчас за ухо и выведу. — Он уже не шептал, а шипел.
— Ладно… Сразу — за ухо, — проворчал Васька и повернулся уходить.
Уже у самого выхода он неожиданно наткнулся на соседку — Марину Симакову. Еще этого не хватало! Она и так недолюбливает Ваську, «азиятом» зовет, а тут и вовсе в хулиганы запишет, в «анчихристы». Разве она поверит, что он пришел в церковь богу молиться? Такие сюда за этим не ходят, у них на уме одно «хулюганство»…
Завидев Симакову старуху, Васька нагнул голову и юркнул в сторону. Кажется, пронесло. А то оправдывайся потом перед матерью, зачем ходил да что делал.
На улице — в ограде и за оградой — народу было не меньше, чем внутри церкви. В наступившей темноте всюду белели узелки с куличами. Против дверей забор был облеплен любопытными мальчишками. Вспугнутые необычным нашествием, в ночном небе черными хлопьями, как при пожаре, летали вороны.
Васька нашел местечко на заборе, уселся поудобнее и стал смотреть в церковь. Издали ему были видны лишь колышущиеся головы и плавающий над ними дымок. Самая большая люстра была низко опущена и загораживала все, что делалось в глубине церкви, у алтаря. Изнутри церкви, как из улья, доносился сплошной гул. Откуда брался этот гул, если все стоят молча, Васька не мог понять.
Но вот головы закачались больше обычного, заволновались, задвигались, и прямо от двери образовался проход. И вдруг откуда-то издали, из-под люстры вышел батюшка в золотой ризе, в сверкающей шапке-короне, а за ним шел второй — без шапки. Оказывается, первый — это архиерей, приехал из города, потому и народу так много собралось — посмотреть на него.
Позади архиерея и попа напомаженные дядьки несли хоругви — большой серебряный крест, большое полотно с длинной бахромой и вышитым на нем серебряными нитками святым, икону и еще много разных красивых вещей.
Когда вся эта процессия ступила на крыльцо и запела, ударили колокола — весело и торжественно, и в тот же миг все вокруг задвигалось, загомонило. Успокоившиеся было вороны снова взлетали с криком в темное небо, из звонницы с хлопаньем крыльев вылетали перепуганные голуби. А колокола вызванивали что-то веселое, ликующее, совсем не божественное — бом-бом, три-ли-ли, три-ли-ли, бом-бом, три-ли-ли…
С крыльца процессия повернула налево и пошла вокруг церкви. Когда она показалась с другой стороны, Васька увидел, как поп одной рукой махал кадилом, а другой макал маленький веничек в чашу, которую нес рядом с ним какой-то мужичок, и кропил налево и направо стоявшие на земле развязанные узелки.
После этого люди быстро стали увязывать свое освященное снадобье и уходить в ворота за ограду — торопились по домам.
Побежал домой и Васька. Было уже далеко за полночь, но на улице народу как днем: идут и идут с узелками, несут зажженные в церкви и спрятанные в железнодорожные фонари свечи. Подсвечивают дорогу, гомонят, торопятся.
Такого зрелища Васька не видел никогда. Идет, а перед глазами освещенное нутро церкви, и в нем в сизой дымке колышется море голов и слышится сплошной гул. И — золото, золото, кругом золото сверкает. А колокола — бом-бом, три-ли-ли…
Мать открыла Ваське, заворчала, как обычно:
— Где тебя носит, полуношник? Ко всенощной ходил, што ли?
И не выдержал Васька, признался:
— Ага! С ребятами посмотреть ходили.
— Клуб это вам,