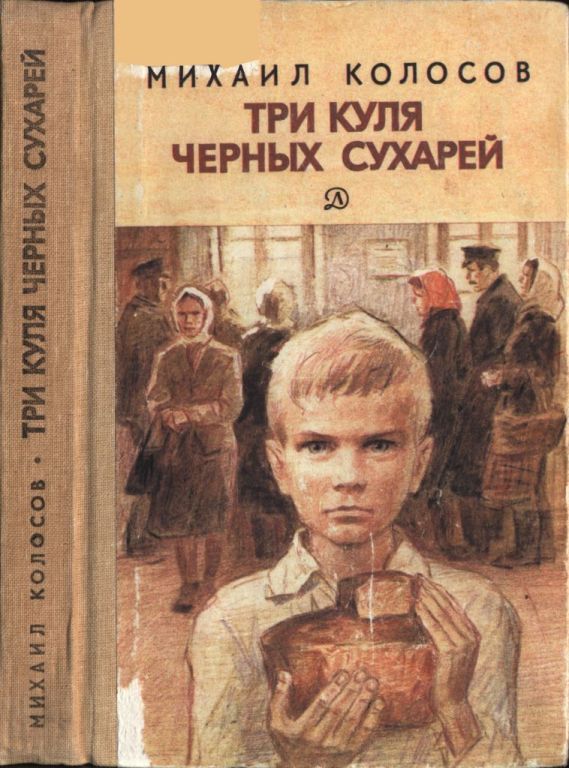Лермонтов!..»
Подошла Ребрина, послушала разговор и, когда раздался звонок, позвала Ваську с собой. Привела в пионерскую комнату, прикрыла плотно дверь, достала из ящика стола толстую тетрадь в клеенчатой обложке, карандаш, приготовилась писать.
— Ну, рассказывай, кого видел? — спросила, нацелив острие карандаша на чистый лист тетради.
— Где? — не понял Васька.
Ребрина нетерпеливо потрясла карандашом.
— Как где? В церкви был?
— A-а… — вспомнил Васька и поморщился. — Был…
— Ну? Кого видел? Говори.
— Никого не видел.
— Как не видел? — удивилась Ребрина. — Никого-никого?
— Да нет… Тетку Маришку…
— Какую еще тетку Маришку? Что ты мне голову морочишь!
— Правда. Бабушка Симаковых, с нашей улицы… А больше никого из знакомых не встретил. Там знаете сколько народу было? Не протолкнешься.
— Н-да… — протянула разочарованно Ребрина и посмотрела на Ваську, скривив в брезгливую гримасу тонкие губы. — Значит, не выполнил поручение? А еще в комсомол просился! А еще стихи антирелигиозные пишешь! Чему же верить — твоим делам или стихам? Человек должен быть цельной натурой, в нем должно быть все едино — и слова, и дела. А ты пишешь одно, а делаешь другое.
— Что я делаю? — вспыхнул вдруг Васька. — Что я такое делаю? Чего вы ко мне пристали? И поручение ваше выполнять стыдно: вы шпионить заставляете, доносить, фискалить, ябедничать — разве это честно? Честно, да? А стихи?.. Стихи!.. Это не ваше дело — стихи. Дались они вам, все время попрекаете.
Васька готов был ударить Ребрину в острые, обтянутые тонкой кожей скулы или заплакать. Но он не сделал ни того ни другого, выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Побежал по пустому коридору, возле стенгазеты остановился — она бросилась ему в глаза яркими красками: карикатурный поп-страшилище смотрел на него сердито, готовый все заграбастать своими когтистыми лапами, толстая набожная старуха неистово крестилась, а ее тощий рахитичный внук, зеленый, как лягушка, держал руки на животе и болезненно корчился. Это все иллюстрации к его стихам, тем самым стихам, которые принесли ему столько страданий, тем самым стихам, которыми теперь колет глаза ему пионервожатая. Стихи!.. Да пропадите вы пропадом! И Васька схватил двумя руками стенгазету, сорвал со стены, стал остервенело шматовать ее на мелкие куски, потом бросил на пол и, потоптав ее ногами, пошел в класс.
На первой же перемене из школы никого не выпустили, всю смену выстроили в коридоре, как тогда, когда был траурный митинг. Разъяренная Ребрина стояла на середине, потрясала ошметками стенгазеты и угрожающе говорила:
— Кто-то злостно сорвал и растоптал стенную газету. Тяжкое преступление это черным пятном ложится на всю школу. Так может поступить только враг. Но мы понимаем, что здесь не все враги, и тот, кто это сделал, должен иметь мужество признаться, чтобы не ложить пятно на всех.
С тех пор как увидел в руках Ребриной куски стенгазеты, Васька понял, что он пропал окончательно и жизнь его кончена, и потому стоял бледный, как тот лист ватмана, на котором была нарисована газета. Он не слышал, что говорила Ребрина, мысли его беспорядочно бродили далеко от школы, в которой он находился последние минуты. Это он уже точно знал. А что же дальше? Домой с такими новостями он не пойдет — видеть материны слезы, ее горе, ее причитания, упреки он тоже не выдержит. Одна дорога — на станцию, на поезд — и куда глаза глядят… Или — в петлю… Или — под колеса вагона… И пропадите вы все пропадом с вашей такой жизнью…
— Так кто же это сделал? — в который раз вопрошала Ребрина, обходя затихшие ряды учеников и заглядывая каждому в глаза. — Не хватает мужества признаться? Да, враг всегда труслив, исподтишка действует!.. Кто это сделал? Последний раз спрашиваю!
«Брошусь под поезд, и нехай как знают…» — решил Васька и выступил вперед.
— Я… — сказал он, не поднимая головы.
По рядам прошел гул удивления.
— Ты? — первым подал голос Григорий Иванович. — Зачем же ты?.. — искренне огорчился он.
— Гурин? — Это подал голос директор и тяжко вздохнул.
— За-зна-лся!.. — протянул ядовито кто-то из девчонок.
— Наконец-то ты раскрыл свое настоящее нутро, — закончила с облегчением Ребрина.
Также не поднимая головы, ни на кого не глядя, Васька повернулся и медленно направился к выходу. Он был как во сне — в голове стоял какой-то шум, как от близко проходящего поезда, а перед глазами мелькали черные колеса — то по одному, то по паре, щелкали на стыке рельсов, вдавливали смолистые шпалы в щебенку…
— Гурин, вернись!.. — Голос у директора был на пределе — он никогда так не кричал.
Васька остановился, кто-то взял его за плечо и повел в директорский кабинет.
— Зачем ты это сделал, Гурин? — спросил директор, вытирая лысину платком.
Васька повел глазами, увидел ноги Ребриной — она была здесь.
— Не знаю…
— Что тебя толкнуло на это? Была же какая-то причина.
— Не знаю…
— Да что тут спрашивать? — подала голос Ребрина. — Он себя раскрыл полностью. Таким не место…
— Что раскрыл? Что раскрыл? — Впервые Васька поднял глаза и посмотрел на Ребрину.
— Погодите вы… Галина Васильевна… — остановил Ребрину директор и обратился снова к Ваське: — Так просто ничего не бывает… Что-то же тебя толкнуло на этот поступок?..
В кабинет вошел Григорий Иванович, остановился у двери.
— Может быть, ты мне не хочешь сказать, так вот Григорию Ивановичу… Его, я знаю, ты любишь… Может, ему скажешь? Мы выйдем.
— Это она все, — кивнул Васька резко головой в сторону Ребриной. — В комсомол не пускает… Поручения дает такие, чтобы шпионить за другими и ей доносить… Теперь начала этими стихами попрекать…
— Отговорки! — прикрикнула Ребрина.
— Помолчите… Но зачем же вымещать накипевшее на стенгазете? Ты понимаешь, что ты натворил? — спросил директор.
Васька кивнул.
— Ну и как же теперь?
— А никак… Я и жить больше не хочу и не буду… Кругом я виноват, все у меня невпопад… Пойду на путя… — Васька не сдержался, крупные слезы покатились по щекам.
— О! — протянула Ребрина. — Он еще и запугивает, клеветник!..
— Да помолчите вы! — не выдержал директор. — Идите, займитесь своими делами. Мы тут сами разберемся.
Ребрина дернула нервно головой:
— Хорошо! Но я это так не оставлю, Евстафий Станиславович! — И она вышла.
Наступила долгая пауза.
— Это не дело, — проговорил как бы про себя директор. — Это не борьба — голову на рельсы. Будто страшнее Ребриной и зверя нет. А, Григорий Иванович?
— Да, решение не самое мудрое, — согласился с ним Черман. — У меня сейчас нет уроков, разрешите мы с Гуриным пойдем в библиотеку и там поговорим?
— Хорошо, — согласился директор.
Григорий Иванович положил Ваське на плечо руку