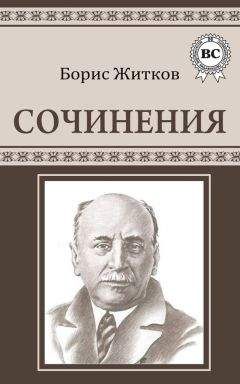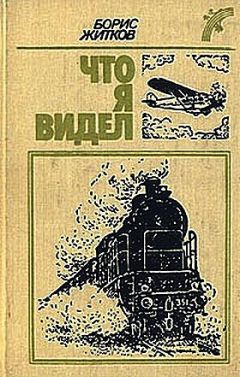– А мне, – говорю, – очень будет приятно. Очень прошу вас.
Кондуктор улыбается, плечами пожимает.
– Не имею права допустить нарушения, меня со службы погонят, если кто увидит.
– Мне придется, – говорю, – пешком идти: не хочу людей пугать, не желаю, чтобы из-за меня давка была.
– А вот, – говорит кондуктор, – передняя лавка свободна вовсе.
– Так чего же, – говорю, – они не сядут, а на площадке жмутся?
– Для белых эта лавка. Желтые не имеют права там сидеть. Передняя – это чтобы продувало и от желтых духу бы не несло на господ. Нехорошо, если желтые впереди.
А сам – как лимон. Тоже малаец.
«Вот, – думаю, – тут уж довели до самой точки: не только имени, духу боятся».
Пришлось мне перебраться на переднюю лавку. Сижу, как идиот. То есть, как англичанин. И не могу я так. Хоть сходи. И вдруг выдумал: спинка-то у скамейки переворачивается, когда трамвай назад идет, все спинки переворачиваются, и все сиденья тогда глядят в другую сторону. Я перевернул спинку и сел задом по движению. И колени в колени с малайцами, что сидели на второй лавке. Я давай с ними болтать. Весь трамвай загудел. Но, вижу, улыбаются. Кондуктор не посмел ничего сказать. Видно, в правилах не было предусмотрено такого случая, как бы сказать, ну такого… бузового.
Да-с, так вот еду. Говорю: я русский и вообще черт с ними, с правилами и с англичанами.
– У нас, – говорю, – этого нет, дорогие друзья. У нас в трамвае все навалом, и будь ты малаец, или эфиоп, или, говорю, китаец – все равно. У нас, говорю, даже англичан пускают.
Они как фыркнут! Однако осторожно. Крепко у них так в головах насчет англичан завинчено.
А тут вскоре сел англичанин. Позвал кондуктора, и пришлось спинку переворачивать. Англичанин даже не взглянул на меня, сел на один край, я – на другой.
А вот еще одно английское гнездо. Тоже база. Гонконг. Тут уж китайцы. Они там все в отдельном квартале. Улочка узенькая, шагов десять ширины, и, как флаги на веревках, повешены вывески. Из материи. Живут до того скучно, что одни только двери, кажется, и есть. Стен будто совсем нет.
И валит по этой улочке полным ходом трамвай. И китайские мальчишки, как воробьи, прыскают из-под трамвая. Я прямо глаза жмурил – вот-вот задавит. Однако – никого. А улица полна народу. И за трамваем народ сейчас же смыкается, как вода.
– Что это, – спрашиваю соседа, – тесно так живут?
Сосед был голландец, он ответил:
– Места им отведено мало, а их много. Вы посмотрите их на воде.
Я пошел к воде. Правду сказать, не видать было воды. Под берегом все битком забито было китайскими шлюпками. Как мостовая. Я спросил:
– Нельзя ли покататься?
– Ах, пожалуйста! – И сейчас же меня один китаец повел через чужие шлюпки дальше и дальше по этой шлюпочной площади. Шлюпки все палубные, очень аккуратно сделаны, чистенькие. – Вот, – говорит, – это моя. – И стал подымать парус.
Я взялся за руль. Вышли мы из кучи шлюпок, все китайцы помогали, проталкивали. И надо всеми шлюпками стоит запах китайской пищи: кунжутного масла и чесноку. И у нас из люка шел тот же дух.
Тут ветерок покрепче нажал, я ногой уперся в брезент: впереди брезент пакетом лежал. Вдруг пакет зашевелился, как живой. Я даже струхнул сначала. Смотрю, из пакета – голова, круглая, как на шахматной пешке. Китайчонок. Жмурится на солнце.
– Это, – говорит хозяин, – мой сын.
Я достал две картинки от папирос, даю ему. Он взял и что-то по-китайски крикнул. И вдруг из люка – китайская девчонка. Мальчик побежал по палубе – года ему три. Я кричу: «Упадет!» Китаец мой только смеется. Мальчишка стал с девчонкой картинки делить. Я нашарил еще одну в кармане и кричу: «На еще!» Он увидал. Смотрю, вылезает еще девчонка. Я говорю хозяину:
– Сколько же у тебя их?
Полез я по палубе, заглянул в люк. Там, на дне, на циновке сидела китаянка. На руках ребенок, а перед носом жаровня, на ней она рыбу жарила. А если там на ноги встать, то ровно по пояс придется ей палуба. Жить там можно только ползком.
– А дом у вас на берегу есть?
Китаец замахал руками:
– Нас на берег не очень и пускают.
Я говорю:
– Много вас на воде?
Китаец никак не мог сказать такого числа, он по-английски не знал, как и сказать, объяснил кое-как: выходило, несколько тысяч.
– А если буря?
Китаец серьезным стал.
– Было, – говорит, – раз такое. Мы все говорим полисмену: «Надо лодки вытягивать, будет страшная буря – тайфун, нас всех в черепки переколотит». А англичане: «Нет! Не врите. Сидите, где посажены. И вот отсюда досюда ваше место». А мы бурю эту за несколько дней чувствуем и чуем, как смерть. И были все в тоске. И мы хотели пойти к начальнику. Нет, не пустили.
И вот вы представьте себе, что все китайцы со всеми этими ребятишками сидели на воде и ждали смерти. И налетела эту буря – тайфун. Он обращает море в кипящий котел, он ветром срывает деревни на берегу, крыши пухом летят. Несет, как бумажки, целые ворота, скотину подымает в воздух. И тут же над головой, как из дыры в небе, льет дождь, что пригибает человека к земле. И вот такой тайфун налетел на эту плавучую деревню. Китаец не мог мне опять назвать числа, сколько пропало китайчат и больших китайцев. Все шлюпки разбило вдребезги, в щепки, растрепало по небу и по морю последние остатки. А кто выбрался на берег – ого! Тех сейчас же загнали полисмены в загон и заперли: на земле вам места нет, нечего вам тут вой подымать. И как оставшиеся китайцы потом оправились, не мог я понять. Китаец мой только говорил: «Хорошо, ух, как хорошо, что детей этих тогда не было!» Так радовался, как будто про счастье рассказывал, а не про бедствие.
– Чего ты радуешься? – говорю.
– А что они есть, – и сына за ухо подергал.
Я ему дал монету, говорю:
– Сдачи не надо. Все тебе.
Он испугался.
– Напиши, – говорит, – мне расписку по-английски, что это ты сам мне дал, а не я украл. Я боюсь, что нехорошо может быть. Полисмен…
А я говорю ему:
– К черту полисмена!
А он мне деньги назад сует: не надо, мол, никаких тогда денег. Пришлось писать. Я написал:
«Проклятые полисмены английские! Я дал этому китайцу доллар, не отнимайте у человека, что он заработал». И подписал, и свой адрес написал.
А китаец не столько доллару радовался, сколько боялся, как бы несчастья не было от такого богатства.
– Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! – говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.
– Теперь – как по железной дороге, – утешал ее толстяк, – даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов. – За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.
Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.
Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом:
– А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?
Пилот улыбнулся.
– Да и днем их не видно.
– А если провалимся, то?..
– Ну пролетим вниз немного, не беда, – мы высоко полетим.
– Ах, очень высоко? – вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. – Это очень приятно! – сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.
– Э-эй, обормоты! Не разливай бензина! – крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки.
– Ладно, черт! – сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.
– Теперя ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится мотор – так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормотина! – вполголоса ворчал мальчишка.
Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.
– А что ж, меня-то возьмешь? – спросил механика ученик Федорчук.
– Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.
– Так ведь какое тут ученье! Взяли бы – пригодился б, может быть.
– Какая от тебя польза, одно слово – балласт, – отрезал механик.
Но пилоту стало жаль Федорчука.
– Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся – полетишь!
Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.
Снялись.
Аппарат набирал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, – яркое, яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня – те же облака сверху.
Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала.