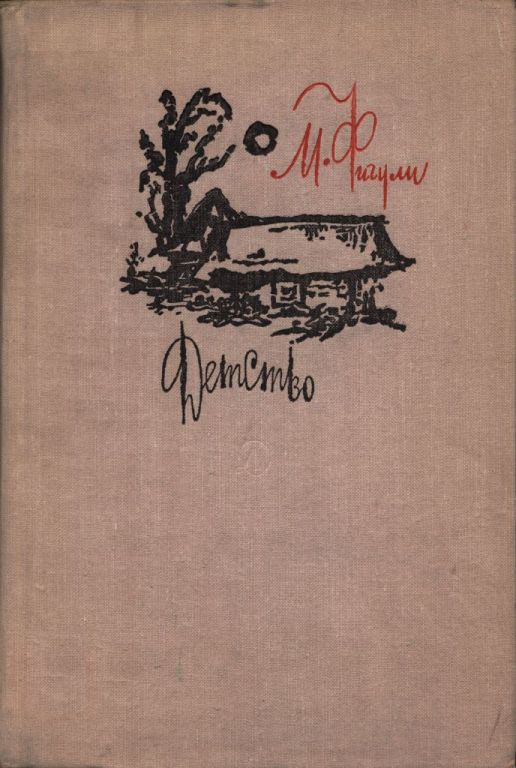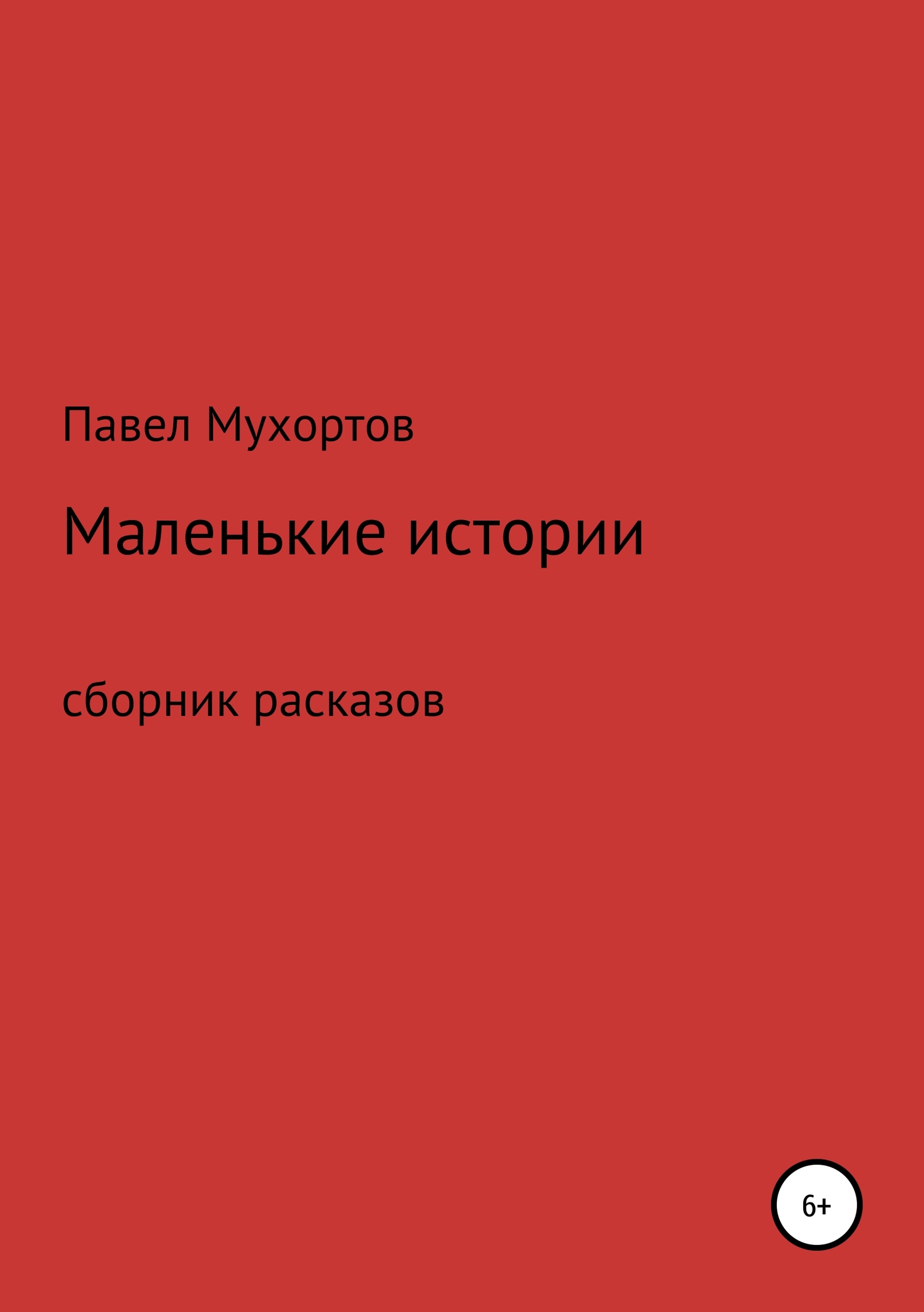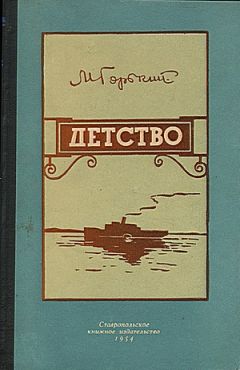вернется! Чего ему там делать, раз фронта нет?
Она вытерла руки о фартук, и мы пошли опять в кухню.
Мама сняла горшок с плиты и стала сливать картошку. Пар клубился у ее лица. Она даже отвернулась, чтобы не обжечься. Но и сквозь пелену пара я заметила, как у нее вдруг отяжелел взгляд. Она снова о чем-то думала.
— Чудно как-то бывает, — размышляла она, — тот русский в белых перчатках больше якшался с нашими господами, чем с пленными, с земляками своими. Говорят даже, что он за ними шпионил и доносил нашим властям, кто из них что думает. Да он и сам был паном, судя по виду. Иначе не ходил бы с серебряной тростью и в белых перчатках. Да и до работы не больно охоч был. Такие-то скорей подговором занимаются. Неудивительно, что он так кончил.
Все это припомнилось мне, когда я прибежала к маме рассказать ей, как Михаил поцеловал Юркину ручку.
От дяди Данё дедушка заглянул и к нам. Он сообщил маме, что Федор с Михаилом тайком собираются уходить.
Дедушка, понизив голос, со вздохом сказал:
— Горько за моего Ондрея, уж он-то никогда не воротится. А Штефан и Матуш, ежели живы, придут обязательно.
Матушем звали нашего отца, и при звуке этого имени мама глубоко и громко вздохнула. Она не могла скрыть охватившую ее радость.
В этот же вечер случилось еще кое-что неожиданное: наша мама вдруг запела. Она тихонько напевала песенку, которой научил нас Федор, когда мы еще летом работали в поле.
В эти дни не только наша мама, многие переменились. Старая Верона, тетка Порубячиха, Матько Феранец, Милан Осадский да и тетка Ондрушиха — все они, казалось, светились. А поглядишь на Ливоров, дядю Ондруша или Петраней — лица их были словно бы затянуты тучами.
С каждым днем мир становился запутанней, а жизнь тяжелее. Но это не отнимало веры у хороших людей. И в сырую осень, когда ветер мел сухие листья по земле, они надеялись, что солнце выглянет из-за туч, предвещая конец проклятой войне.
Повсюду говорили, что вот-вот наступят другие времена.
Диво дивное, и господа из замков вдруг стали приветливей к людям. Проезжая в колясках из окрестных деревень в город, они кивками головы приветствовали работавших в поле.
А как-то даже тетку Осадскую вместе с мотыгой и узелком на спине посадили в коляску. Довезли ее прямо до дому, помогли выйти, а барин на прощание еще и руку ей протянул. Люди смотрели большими глазами. В деревне только и толковали об этом. Вот, говорили одни, господа, верно, поняли, что господь бог сотворил всех по своему подобию и что все равны. Другие считали, что господа уже сами почуяли, что земля горит у них под ногами.
Милан Осадский зубами скрипел от злости:
— Я бы не сел к ним в коляску, даже если бы ноги до крови сбил от ходьбы.
Как раз в тот день пришел из Еловой дядя Яно Дюрчак и стал еще подзадоривать Милана:
— Надо же, в колясках захотели нас покатать. Плевали мы на их коляски, парень. Землю надо у них отобрать — вот что, пусть наш хороший, работящий народ на ней пашет, сеет, косит да свозит урожай в амбары. А коляски пусть оставят себе. Им они пригодятся, когда мы их пошлем в преисподнюю. Да и улыбки их ни в грош не ставь. Твоего деда истязали они на кобыле [26]. Отца твоего послали на фронт, чтобы голову там положил. Тебя, не задумываясь, впрягли бы в коляску вместо коня и погоняли, если б могли… Но война эта для них добром не кончится. Ох, парень, нынче такое творится за Карпатами…
Милан ловит каждое Дюрчаково слово. Под навесом точит топор и пальцем пробует лезвие. Таким можно волос рассечь, точно бритва. Такой топор в нужную минуту с успехом заменит винтовку.
— Если бы только за Карпатами, — продолжает Дюрчак. — А сходи-ка к русским, что живут в халупе у реки, или к итальянцам на хутор. Недавно я рассказал им о том парне из-под Монте-Граппо. Я видел, как у них надувались жилы. Ты небось знаешь тех двух рыбаков — Франческо и Джанино. Запомни их, сынок. Начнись что, от них будет толк.
Еще на прошлой неделе эти парни танцевали с деревенскими девушками под гитары. А понадобится, так и на другое развлечение отважатся. Но это будет не так просто. Милан-то это знает и потому спокойнее пробует лезвие топора. Пробует спокойнее еще и потому, что знает: куда лучше танцевать, чем драться и проливать кровь. Танцевать, например, с Беткой, любоваться вблизи ее красивым лицом, обдавать горячим дыханием молодости пряди ее черных, как уголь, волос и обнимать тонкую, стройную, как весенний побег, талию. Только мама не пускает Бетку на хутор танцевать с солдатами. И Милану надеяться не на что: ведь пока война, другой музыки в деревне не будет.
Иной раз он завидовал итальянцам, когда они танцевали с девчатами. Франческо выбрал Петранёву Юлиану. Он прокружил с ней вокруг всех кленов в аллее, ведущей к замку. Юлиана хотя и отшучивается, но глаза выдают ее: ради Франческо она пойдет в огонь и в воду.
Тетка Петраниха следит за каждым Юлианиным шагом. Глаза б ее на это все не глядели. Матери и во сне не снилось, что такой позор падет на их голову. В костеле ей даже первой скамьи было мало, она рассаживалась с дочерьми на господских. И все похвалялась, что за каждой в приданое даст по сундуку золота. Самую старшую ранней осенью она выдала за богатого холстяника из Верхней Оравы. К Юлиане сватался его брат, но она о нем не захотела и слышать. Из-за свадебного сестриного стола убежала к Франческо. Тайком вынесла ему угощение и, пока ночной сторож не протрубил десять, не вернулась.
Милан понимает, что такая девчонка пошла бы и против господ. Наверняка бы пошла. На сей раз яблоко далеко откатилось от яблони. Юлиане ни к чему материнское золото, сидеть бы ей лучше на берегу итальянского залива и закидывать сети вместе с Франческо.
Милан улыбаясь усаживается на бревно против Яна Дюрчака.