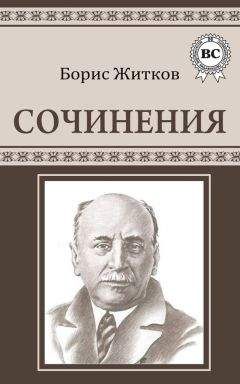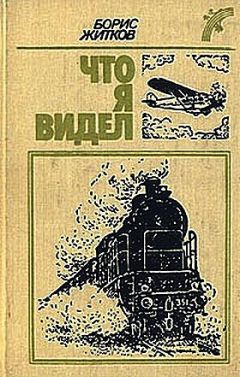– Гляди, самовар какой, – усмехнулся Федор, – уж немилым глазом на меня глядит.
Когда убирали тюленей, Дмитрий все злился и не говорил с Федором. Дмитрий сам смотрел из бочки с верхушки мачты. Вон далеко на льду что-то черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился вниз, чуть не слетел.
– Шлюпку, шлюпку! – кричал он, горячась, и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.
– Ну чего там? – спросил Федор.
Дмитрий только зло глянул.
– Что? – спросил Титов.
– Морж и два медведя.
– Да врешь?
Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым глазом можно было уже увидеть зверей.
Огромный морж, поднявшись на ласты, вертелся, сколько позволяло ему его огромное тучное тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж – лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи, что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого не боится. Но на льду ему плохо. Грузно движется он на своих неуклюжих ластах. А все-таки один на один медведь боится с ним связаться.
Морж старался подвинуться ближе к воде, оставалось уж недалеко. Медведи боялись, что вот-вот уйдет он от них, но все не решались наброситься.
Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется до воды, и поминай как звали.
Солнце ярко освещало блестящий лед, и его сияние ударяло снизу и слепило глаза. Дмитрий вылез на лед и, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко повернулся в его сторону, и медведь попятился, молодой не решался схватить моржа за хвост.
Дмитрий боялся, чтобы медведи не попортили моржовой шкуры раньше, чем он добежит, и боялся, чтоб не упустили моржа в воду.
Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей.
Но вдруг Тишка крикнул:
– Майна, майна [26] , не видит! Митька!
Все сразу увидали темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.
Кричали, но Дмитрий ничего не слышал и видел только, что еще сажени три – и морж уйдет.
– Давай багор, бежим! – крикнул Федор и пустился вслед за Дмитрием.
Кляцнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился с разбегу в воду. Тяжелые патроны тянули вниз, он на секунду вынырнул и опять скрылся. Снова показались руки.
Никто не решался пойти по тонкому льду. Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз на животе к краю майны.
Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел багор как раз под руки, которые показывались из воды и беспомощно хватали воздух. Руки схватили багор. Показалась голова Дмитрия. Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на Федора. Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно ли, или сознание оставило его? Но Федор острым крюком багра уцепил его за малицу и потянул. Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал Федора. Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку и напоили мертвецки спиртом.
Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе Федора.
– Прости, брат, что плюнул, твоя правда…
– Ну, ну, ладно. Ты вот опохмелись, гляди, дрожишь весь.
И налил ему спирту.
Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит – стать негде.
Придет пароход – вся команда высыпет на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.
Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.
А пароходчики не сдавались – посидите голодом, так небось назад запроситесь!
Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал. Вполголода сидели моряки, а не сдавались.
Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.
Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет?
Алешка Тищенко говорит:
– Нет. Не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они…
Подумал и говорит:
– А они – лимонад.
А Сережка-Горилла рычит:
– Кабы у них с этого лимонаду пузо не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву задами вытерли.
А Тищенко свое:
– А им что? Коров на твоем бульваре пасти? Напугал чем!
И ковыряет со злости стол ножиком.
Тут влетает парнишка.
Вспотелый, всклокоченный.
Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:
– Они здесь чай пьют!..
– Лимонад нам пить, что ли? – говорит Тищенко и волком на него глянул.
А тот кричит бабьим голосом:
– Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!
Тищенко:
– Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?
– С трубы, – кричит, – с трубы дым пошел!
Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:
– Это не дым идет, а провокация.
Парнишка плачет:
– Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!
Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».
Верно, из пароходной трубы шел черный дым, а кругом – и на сходне, и на пристани, и на палубе – кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы. Не подойти.
– Союзники русского народа, – объясняет парнишка.
Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа» – полицейская порода.
Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.
Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан – из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину – механиков…
– Очень просто, что снимутся, – говорит Тищенко, – а в Варне заграничную команду возьмут – и пошел.
Сережка вдруг оскалился, говорит:
– Не пустим!
– Ты ему соли на корму насыпь, – смеется Тищенко.
– Знаем, как насолить, – говорит Сережка. – Пойдем… – И толкает меня под бок.
Вышли мы из толпы.
Сережка мне говорит:
– Ты не трус?
– Трус, – говорю.
Он помолчал и говорит:
– Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому – ничего.
Пальцем помахал и пошел прочь.
Чудак!
Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится – ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.
– Что, – спрашиваю, – ты, дурак, надумал?
– Полезай, – говорит, – в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.
Рассмотрелся, вижу плот и тузик.
Пошел я по плоту, – не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я – как в розетке.
А вода весенняя, холодная.
Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.
Разделся я до белья – и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.
– Ну, – говорит Серега, – начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза выверну и тебе в мешке спущу.
– А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?
– Нет, – говорит, – там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваляем.
– Сваляем, – говорю.
И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.
А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.
Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.
Гребу смело к пароходу.
Вдруг оттуда голос:
– Кто едет?
Ну, думаю, это береговой, – флотский крикнул бы: «Кто гребет?»
И отвечаю грубым голосом:
– Та не до вас, до деда.
– Какого деда там? – уж другой голос спрашивает.
А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.
А я гребу и кричу ворчливо:
– Какого деда? До Опанаса, на баржу, – и протискиваю туз между баржой и пароходом.
Сережка окликает:
– Опанас! Опанас!
С парохода помогают:
– Дедушка, к вам приехали!
Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.
И говорю громко:
– Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы, к черту, сторож! Вас палкой не поднять, – и шевелю уголь ногой.
Смотрю – и Сережка лезет ко мне.
Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:
– Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.
Сережка, дурак, смеется. А с парохода говорят:
– Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.
И затопали по палубе.
Сережка говорит мне:
– А дурак ты, дедушка, ей-богу, дурак!
Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.
Я скорей к ним.
К мокрому белью уголь пристал – самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.
Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.