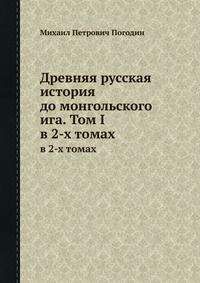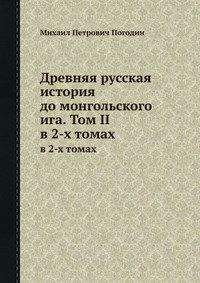Алька видел этот сон несколько раз, и всегда перед болезнью.
Под Харьковом он почувствовал, что легкие перестают работать и ослабела шея. Он попытался подняться. Солдат, что лежал рядом, возвращающийся из госпиталя фронтовой шофер с орденом и медалью, провел по его лбу шершавой ладонью.
— Перемогайся. Завтра на место станем, там тебя в госпиталь определят. Во фронтовой. Тут ссадят — и в тыл. Ты ж не за этим столько всего натерпелся? Ишь ты, жару нагнал… — Сосед ничего не спрашивал. Сразу, вглядевшись в его морщинистое, как бы вываренное лицо, покачал головой: «Сирота. Из Ленинграда небось?» Сейчас он сопел от сочувствия и советовал: — Нерв напрягай. Нерв любую болезнь сдержит. Я знаю, я раненых много возил. Мне доктора объясняли…
Алька не помнил, как эшелон стал на место, как распределяли пополнение, этого он просто не видел; он помнил только, как стоял перед грозного вида полковником и полковник, глядя на его брезентовые баретки, многопудово громыхал страшными, как трибунал, словами.
Вечером к капитану Польскому пришел солдат-ординарец, пилотка лепешкой, ремень как подпруга. Сдержанно поздоровавшись со всеми, на виду и все же как бы украдкой вынул из мешка «доппаек».
— Гостинец вам от товарища старшины и повара Махметдинова.
«Доппаек» поедали сообща. Ординарец щурил маленькие талые глаза и бормотал, подозрительно поглядывал на майоров и с особой тревогой — на Альку.
— Вам, товарищ капитан, привет от всего состава разведчиков. Просят вас есть побольше, чтобы быстрее на ноги встать. Вот питание прислали. Переживают…
— Ну, ну, не гуди, — сказал ему лежачий майор. — Скряга ты, Иван, и сквалыга.
— Дык я что? Я за свою работу болею. Курите вы, товарищи майоры, больно много. Я вам махры принес. Знаменитая махра — тютюн. Старичок один сочувственный поделился.
— Откуда такая о нас забота?
— Душа майор, это чтобы мы капитанские папиросы не трогали.
Ординарец Иван насупился, помолчал, пошарил глазами по углам и сказал наконец бранчливо:
— У кого болезнь нутряная, тем, говорят, махра полезнее. В ней, говорят, никотину меньше. А комроты нашему, товарищу капитану Малютину, и вовсе курить нельзя с язвой.
— Ишь ты, радетель, — засмеялся капитан.
И все засмеялись.
Когда ординарец собрался уходить, свернул пустой мешок и пожелал капитану быстрейшего выздоровления, капитан вырвал листок из блокнота и подал ему.
— Отдай писарю, пусть документы оформит. — Капитан кивнул на Альку: — Аллегорий. Рядовой, необученный.
Ординарец прочитал, возмущенно засопел, кажется, даже хотел записку скомкать и бросить. Лицо его вдруг стало заостренным и гневным.
— Такого Швейку в нашу геройскую разведроту? — Он даже всхлипнул. — На что он? Через него же насквозь глядеть можно. Ни один комвзвода его не возьмет.
— К сержанту Елескину, — приказал капитан, легкомысленно угощая соседей «Казбеком». — Степан парень кроткий. На учителя чуть не выучился. Практика ему будет педагогическая.
— Сержант Елескин — геройский сержант. Когда же ему нянчиться? — Ординарец разлепешил свою пилотку, взъерошил легкие белые волосы и ушел, возмущенный насквозь.
Явился он на следующий день, поздоровался, не глядя на Альку, и так же, не глядя, но выражая и позой, и пренебрежительными движениями снисходительность к капризам своего командира, подал Альке солдатскую книжку:
— В первый взвод. К сержанту Елескину. — И вдруг засмеялся с откровенной коварной радостью: — Только не догнать тебе, Швейка, того первого взвода. Через два дня выступаем… Придется тебе при госпитале послужить в поварятах.
— Как выступаем? — Капитана снесло с кровати.
— По приказу. Нам писаря из штабной роты шепнули…
Капитан с проклятиями выскочил из палатки. Вскоре он явился с доктором Токаревым и расстроенной медицинской сестрой.
— Выписывай! — кричал он. — Похалатили, и довольно.
— Не шуми. Я бы тебя и так и так завтра выгнал. Надоел ты мне… — ворчал доктор Токарев. — А это что тут за самовольство?
Оба майора уже были одеты и при оружии.
Когда Алька пришел в роту, писарь Тургенев, бравый и сытый, захохотал, широко открыв рот с крупными зубами. Он тыкал в Альку зачерниленным пальцем и сипел:
— Маскарад! Старшина, гляньте — прислали нам Жюльетту, в Швейку переодету.
Алька уже привык к тому, что солдаты вместо Швейк говорят Швейка, — теперь еще и Жюльетта.
— Ну, ну… — Писарь похлопал его по плечу. Наверное, он был чистоплотным человеком, но, несмотря на умытость и гладкую выбритость, его лицо показалось Альке комком туалетной бумаги. Алька отодвинулся.
— Снимите вашу амуницию, — спокойно сказал старшина. — Интересно, сколько же вы отдали за нее на рынке?
Старшина был невысоким, узкобедрым, с внимательными глазами и какими-то изысканными движениями; обмундирование он носил командирское, времен начала войны. Алька определил его внешность, включая одежду, старинным словом «элегантный», которое его сверстники почему-то произносили с прононсом и стеснялись, произнеся. Старшина смотрел на Альку участливо — так высококлассные спортсмены смотрят на толстопятых старательных новичков.
— А вы фехтовальщик сами? — Алька ни с того ни с сего разгорелся улыбкой.
Старшина кивнул. Писарь вытаращился на него с удивлением и подобострастным восторгом, наверно, такое ему и в голову не приходило. «Ишь ты, морда-рожа, — злорадно подумал Алька. — Тебе бы к Лассунскому. Он бы тебя на каждом уроке вызывал для атмосферы: „Тургенев, к доске. Тургенев, расскажи нам, что такое демпинг. Не знаешь? Ишь ты какой упитанный! Ты, наверное, ешь сало с салом и, плотно пообедав, тут же принимаешься думать об ужине. Садись — думай о будущем… Аллегорий, перестань ржать…“»
От старшины Алька вышел преображенным. Гимнастерка, брюки, шинель — все было впору. Пилотку старшина надел Альке лихо набок, она так и застыла.
Алька шел, в меру выпятив грудь, слегка подав плечи вперед, тощий, но осанистый. Позвоночник, привыкший за последнее время к сутулости, ломило, дыхание от этого затруднялось.
— Старшина, посмотрите, Швейка-то как вышагивает! Ишь резвый. Ишь какой экстерьерный. — Эти слова произнес писарь Тургенев, высунувшийся в дверь.
Алька не обиделся — в писаревой интонации слышалось доброжелательство, даже гордость.
Так они менялись в спортивном зале. Из сопливых шкетов, пацанов, гопников превращались в людей, с которыми полагалось говорить вежливо и убедительно. Они приходили в спортивную школу кто в чем, но одинаково серые, упрятанные в скучную одежду, как в шелуху. Гимнастическая форма: белые майки, синие брюки с красным пояском и черные мягкие туфли — вдруг делала их движения строгими и свободными. В сознании возникало острое ощущение гордости, предчувствие новых возможностей и нового языка…
— Швейка, ты чего этаким павачом ходишь?
Алька обернулся. На него нахально глядел и ухмылялся ординарец командира роты Иван — пилотка лепешкой, шея отсуютвует.
— Не Швейка — Швейк, — сказал Алька.
— Усвою. — Ординарец оглядел его со всех сторон. — Павач, между прочим, павлин. Интересное слово… Я тебя жду. Комроты велел отвести тебя к сержанту Елескину. Смотри ты, автомат тебе выдали натурально и запасную диску…
— Диск, — поправил Алька.
— Усвою. Стрелять-то умеешь?
Алька покраснел.
— Идем к сержанту Елескину — он к педагогике слабость имеет.
За спиной у Альки висел вещмешок, в мешке котелок луженый, крашенный поверху зеленой краской, и ложка — большая деревянная, вырезанная в Хохломе из мягкой липовой чурочки.
— Сержант Елескин, принимай стюдента, — сказал ординарец. — Башковитый стюдент.
Сержанту Елескину было за двадцать, он сидел, прислонясь к рассохшейся бочке, играл на балалайке «Светит месяц». Телосложение он имел бурлацкое, с тяжелой сутулостью, которая возникает не от возраста, не от согбенности перед жизнью, но от тяжести размашистых плеч, глаза голубые, с пристальным любопытством, такие глаза редко лукавят, но всегда немножко подсмеиваются. Оказалось, сержант Елескин не командует никаким подразделением, даже самым маленьким.
— У нас во взводе двадцать сержантов, — сказал он. — И младших, и средних, и старших. Даже трое старшин. Разведчики…
Весь день сержант Елескин обучался играть на балалайке и обучал своего «приданного» владению оружием. У него целый арсенал был. Кроме автомата, гранат, запасных дисков, ножа и трофейного пистолета, сержант владел ручным пулеметом.
— Нынче у нас особое будет задание… Светит месяц, светит ясный… Я пулеметик на всякий случай выпросил. Хорошая машина «дегтярь»… Светит полная луна…
Алька быстро освоил автомат и снаряжение автоматных дисков. Но вставить снаряженный диск в автомат сержант ему не позволил.