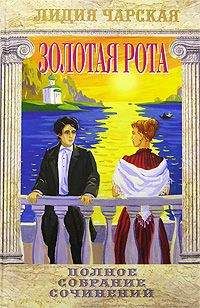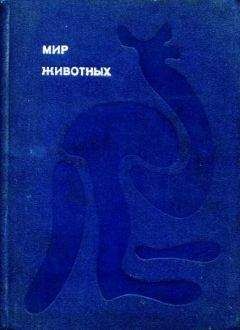Ларанский-старший побарабанил еще несколько секунд пальцами по железным прутьям клетки и разом, неожиданно отвернувшись от окна, подошел к Марку. Его встретил враждебный взгляд, Марк был настороже.
Конторщик усмехнулся.
— Чего ты боишься? — бросил он в сторону сына и еще презрительнее оттопырил нижнюю губу.
Марк встрепенулся.
— Врешь! — с видимым усилием произнес он, — врешь! Ты знаешь, что я не боюсь ни тебя, ни другого. Я никого не боюсь в целом мире. И это ты знаешь тоже.
— Молчи! — закричал Ларанский-отец, и кулаки его конвульсивно сжались. — Молчи. Верно, не боишься, потому что развратничаешь и сбиваешь своими гнусностями с пути других.
— Врешь! — с угрюмым усилием проронил Марк, — и сам знаешь, что врешь! Знаешь, что не такой я и что меня оболгали.
Упорный горящий взор юноши точно присосался к темному немигающему, тусклому взору отца. С минуту они стояли друг перед другом, оба сильные, как звери, и, как звери, ожидающие борьбы, могущей решить главенство одного из них. Лица обоих побледнели разом.
Так длилось с минуту, а может быть, и больше, и это казалось мучительным для обоих.
Потом кулаки Артемия Ларанского как-то разом разжались, и он отвел тяжелый взгляд от лица сына. И Марк тотчас же понял, что победа осталась за ним раз и навсегда.
— Желал бы я знать, — проворчал себе под нос Ларанский, — что могло побудить чистого, нравственного юношу бежать к купающимся бабам. Из любопытства, скажешь? Знаем мы это любопытство, как оно прозывается, — и он прибавил циничную фразу, заставившую Марка вздрогнуть и насторожиться. И помолчав с минуту, прибавил: — До восемнадцати лет дожить дармоедом, на шее у отца виснуть — да, тут еще не такая мерзость попрет в голову. Всякая гадость от безделья выходит. Слушай ты, слушай! Я говорил о тебе с управляющим, и он обещал принять тебя в штат постоянных служащих. Может быть, при машине будешь, может, в сушильне или резчиком. Все равно, еще не решили. Где выйдет, там и прикомандируют. Поил и кормил я тебя даром, потому что ты мне сын все же, хотя и отъявленный бездельник, потому что я некоторым образом являюсь ответственным за тебя перед законом, судом и обществом, но потакать тебе в твоей разлагающей лени, которая ведет к пагубным последствиям и нравственному растлению, не намерен, как и не намерен подставлять тебе мой карман. Вон сын управляющего трясет отцовскую мошну в свое удовольствие, обзавелся любовницами, но зато это сын управляющего — его заместитель и общая надежда фабрики. А из тебя не выйдет ничего путного, да и не может выйти. Не прыгнуть же выше своей головы. Шею сломаешь. Довольствуйся малым, если не сумел завоевать себе большего. А денег я тебе давать не буду. Так ты и знай. Работай и зарабатывай сам. Есть известный предел заботам родителей. Благодари еще, что не гоню из дому и кормлю, ни на что не глядя. И нравственности твоей я блюсти не буду. Делай, что знаешь и как знаешь. Ты стал порядочной дубиной. Да и вообще, применяй все к своим средствам и помни, что я за тебя не ответчик!
Ларанский кончил и тяжело перевел дух. И Марк дышал так же тяжело и порывисто, как его отец.
С первых слов отца в нем закипело негодование. Отец был неправ и упрекал его несправедливо. Забитый, несчастный, озлобленный и озверелый, он все-таки чудом сохранил в себе ту чистоту сердца и тела, которая к пятнадцати годам покидает мальчиков его среды. Вследствие ли этой самой одичалости или чего другого, но он и сохранился нравственно, несмотря ни на что. Женщина не была женщиной в его глазах.
Она просто представлялась ему той живой машиной, то корпевшей на повседневном заработке, то ругающейся и отталкивающей, безобразной на пьяных гуляньях в праздничные дни. Он привык видеть обнаженный порок, привык к грубому и простому отношению животных-людей, которых встречал так часто в среде товарищей, и прелесть поэзии была ему непонятна. Сейчас отец заронил в его сердце что-то, чего не вполне понял Марк. Притом он намекал ему о праве нравственно трудящегося человека, о котором до сих пор никогда не думал Марк.
Случись этот разговор два-три дня тому назад, Марк пропустил бы его мимо ушей, но теперь… Когда мысль его нет-нет, а возвращалась к Лизе, юноша почувствовал, что отец сделал прекрасно, позаботясь о его положении.
Завтра он начнет свою деятельность, завтра встанет у машины и, как настоящий рабочий-фабричный, будет работать собственными руками. И это даст ему среди рабочих престиж и право человека, поднимет его нравственный рост. Он перестанет казаться в глазах окружающих тем мальчишкой Марком, которого они в нем видели до этих пор. И потом, с приобретением права работающего и зарабатывающего человека он как бы увидел открывшиеся перед ним новые горизонты. Та же Лиза казалась доступнее для него, Марка. Он проник инстинктивно в смысл слов отца и применил их к себе. Деньги — сила. Бедность — бессилие. Если Лиза выходит за хромого калеку-машиниста, значит, есть нечто большее, нежели красота. И этого большего добьется и должен добиться он, Марк, благо, он вынослив и силен, так силен, что хромой Михайло не годится ему в подметки. И Лиза увидит и поймет это. И Лиза откажет хромому и будет женой его, Марка.
Так думал он и не чувствовал уже прежней ненависти и обиды по отношению к отцу, которые жили раньше в его сознании.
Он даже ощущал в себе некоторую благодарность, хотя в душе его еще чувствовался остаток протеста, протеста несправедливо заподозренного и оклеветанного человека.
Отец думал о нем хуже, чем он был на самом деле, и это волновало его.
Старший Ларанский как будто понял чувства сына. Покорность Марка невольно смягчала его и помимо воли располагала в пользу юноши. Ему все-таки по-своему был близок этот кудлатый взрослый мальчуган, дикий в своей замкнутости, сильный и прямой.
Его несложные отношения к нему до сих пор сводились к одному: к возмездию за малейший проступок. Так понимал он воспитание. И порой в силу принципа, порой в состоянии аффекта или влияния вина он бил его по праву отца, бил нещадно. Но говорить с ним не говорил, по крайней мере, так, как заговорил сегодня впервые. Ожидающий протеста со стороны сына и не получивший его, Ларанский вдруг понял, что с Марком можно говорить и не одной плеткой и кулаками.
Что-то смутное, почти заглохшее за давностью времени встрепенулось в сердце Артемия Ларанского.
В тусклых глазах его сверкнуло нечто, похожее на чувство участия.
Он потрепал его по плечу и произнес с легким намеком на улыбку:
— Ты, парень, вчера за дело получил, и сатанеть тебе незачем. Пришло твое время, действуй тихо, бесшумно и скрытно, чтобы никому вреда не было, понял? И других не смущай, слышь?
Марк вспыхнул и тотчас же подавил разом поднявшееся в нем волнение.
Он знал, что не ему, изверившемуся в правду, восстановить истину, запутанную клеветой. Он решил оставить в заблуждении отца и разом почувствовал, что все проще и легче переживается на свете, нежели он думал. И отец не имел уже в его глазах того вида злодея-деспота, каким он представлялся ему постоянно. Отец просто был человек слабый и простой, подчиненный вполне своей пагубной страсти. Марку даже показалось на одну минуту, что отец, захоти он только, мог бы быть ему прекрасным товарищем. Ему, замкнутому и обособленному от всего мира, неудержимо захотелось иметь такого товарища — грубого, но бескорыстного, совершенно противоположного по натуре продажному Глебу. Захотелось поговорить с ним, открыть свою душу о Лизе и Казанском, которые занимали теперь все мысли и сердце Марка.
Но отец его не обладал чуткостью. Через минуту он снова забыл о сыне и, как улитка в скорлупу, ушел в себя. Опять между бровей конторщика Ларанского залегла угрюмая, тяжелая складка, и душа Марка при виде этого знакомого уже ему в минуты злобы и ненависти выражения лица отца тоже замкнулась и ушла вовнутрь себя.
Марк неловко потоптался у порога, потом угрюмо кивнул отцу и, нахлобучив картуз на самые глаза, вышел из дома.
Между восемью и десятью часами вечера в «Олене», самом дешевом трактире маленького города, собираются его завсегдатаи.
«Золоторотцы», покончившие с дневным промыслом, имеют обыкновение по пути в «роту» оставить у «Оленя» всю дневную выручку. Там ждет их неизменная косушка, а иной раз и сороковка в зависимости от финансового положения серой братии, с тарелочкой грошовых грибов, плавающих с кусочками лука в постном масле, или рыночная селедка, более требовательная закуска.
Марк пошел не один к «Оленю», его сопровождал Черняк, захваченный по дороге.
Первое, что бросилось в глаза приятелям, когда они переступили порог заветного трактира, было серое клубящееся облако дыма, среди которого туманно вырисовывались контуры успевших загулять завсегдатаев. Запах махорки, кислой капусты, пота и спирта сильно ударял по носу, кружа голову. Марк с трудом добрался до стойки кабатчика и потребовал пару пива и сороковку водки для Черняка, бросив на прилавок монету, данную ему как-то отцом в хорошую минуту.