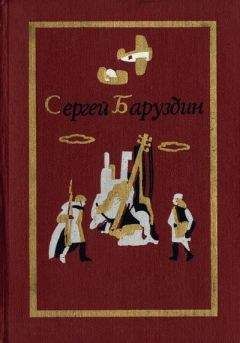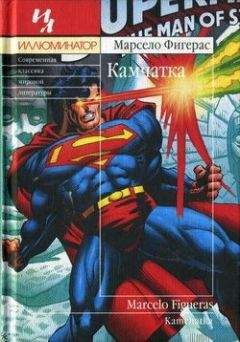Весь следующий день я шатался по Москве. Просто так. Шел по улицам, где мы ходили прежде с Наташей, читал плакаты и объявления на заборах и у ворот каких-то заводиков и мастерских.
Возле военкоматов толпились люди — призывники, провожающие и просто прохожие. И празднично гремела музыка в репродукторах, и было жарко, и светило солнце. Но праздника не было.
Плакаты и объявления извещали о разном. Извещали о мобилизации, призывали совершить путешествие по каналу Москва — Волга или отдать все силы на разгром врага. Рядом со свежими лозунгами висели знакомые мне, но такие устаревшие сейчас объявления о школах танцев. Довоенное и новое, военное, перемешалось.
Требовались рабочие «Дальстрою». Это заманчиво, но далеко. Уезжать на край света, когда идет война? Нет! Требовались ученики поваров, официантов и разнорабочие тресту столовых. Требовались упаковщики в галантерейную артель и слесари первого — третьего разрядов на завод пишущих машин. Требовались электромонтеры на МОГЭС и сторожа на мебельную фабрику. Требовались…
Кем же я могу быть? У меня были мечты. Не те, о которых я говорил когда-то с Наташей, а другие — о том, чем я буду заниматься, когда вырасту. Но это были мечты о том, что должно быть не скоро. Когда я вырасту. Когда окончу школу, в которой мне еще трубить и трубить. Когда закончу институт. И, уж конечно, в этих мечтах не было сегодняшнего — войны.
А сейчас, читая объявления, я видел себя и слесарем, и токарем, и электромонтером, и шофером…
А может, лучше махнуть на большой завод? На военный! Уж если работать, так делать что-то настоящее: танки или самолеты, пушки или винтовки…
На Пятницкой я втиснулся в трамвай и вскоре оказался у автозавода.
— Работать? — спросили меня в отделе кадров. — Пожалуйста, в ремесленное. Здесь рядом, за уголком. Ремесленное номер один, молодой человек.
Идти в ремесленное, чтобы учиться два года. Дудки! И разве я смогу признаться Наташе, что учусь в ремесленном!
Я уже возвращался домой с мыслью объехать завтра другие заводы, как вспомнил: «А ведь рядом с нами типография. В Потаповском. А что, если сходить спросить?..»
— Ну и молодчина, — сказал отец, когда я вернулся домой. — А кончится все быстро, пойдешь учиться. Ничего страшного. В конце концов, я гимназию нормально тоже не кончал.
— Кем ты будешь? — переспросила мать. — Катошником? А что это?
Я объяснил.
— И неужели уже завтра?
— Нет, послезавтра. К шести утра выходить.
— Рано очень. Как же ты будешь вставать?
— Ничего. Не волнуйся!
Я подошел к матери и неловко чмокнул ее в щеку.
— А меня? — спросил отец.
— И тебя. — Я поцеловал отца.
Мои родители!
Знал ли я вас прежде? Наверно, знал. Или просто привык к вам? Привык к тому, что вы есть, как есть наш дом, наша квартира, наша комната. Было бы странно, если бы не было их, и так же странно было бы не видеть вас, хотя ваши слова порой не нравились мне. Вы одергивали меня, поучали, советовали, а кому это нравится?
Но оказывается, я просто дурак. Я ничего не понимал. И раньше не понимал, и совсем недавно — позавчера, вчера. Я сердился на вас, занятых работой, сердился, что у вас не остается времени на меня. Я ходил в школу и куда охотнее в Дом пионеров, я писал стихи и дружил с Николаем Степановичем, я, наконец, любил, а вы толком не спрашивали меня ни о чем. Спрашивали о школе и об отметках и то не всегда.
И вот сейчас, когда пришла война… Мне стыдно, что я не знал вас прежде. Мне стыдно, что я вас боялся и порой грубил вам. Ведь вы слушаете меня сейчас, как равного, как взрослого. И я поступаю так, как хочу, и вы поддерживаете меня.
Только теперь я понимаю… И я люблю вас за все — за прошлое и настоящее, за вчерашнее и сегодняшнее, и за все, что будет впереди…
— А может быть, все-таки лучше в ремесленное? — вдруг словно вспомнила мать.
— Почему в ремесленное? — не понял я.
— Вот повестка. — Мать протянула мне розовую бумажку, в которой говорилось, что завтра мне надлежит явиться в художественное ремесленное училище № 21 с такими-то документами и вещами.
— Нет, пусть лучше работает! Вот какая штука! — сказал отец и посмотрел на меня: — Верно?
Над Москвой рыскали лучи прожекторов. По вечерам в небо поднимались аэростаты воздушного заграждения. К ним тоже привыкли. Привыкли, впрочем, ко многому, что воспринималось как меры предосторожности.
Хотя первый месяц войны и не был утешительным, в скверике у Большого театра, как обычно, цвели гвоздики, на Чистых прудах работала лодочная станция и квакали лягушки, а в «Эрмитаже» выступал Утесов.
Я взял два билета и позвонил в наркомат. Она любила слушать Утесова и сразу же согласилась:
— Правда, у меня дежурство, но я подменюсь. Как ты? Вырос, наверное?..
В последнее время я ее почти не видел. Да что там в последнее время! С тех пор, как она стала работать. Я приезжал к ее дому, бродил по Петровке у наркомата перед окончанием рабочего дня, но чаще всего бесплодно. Или не встречал ее совсем, или она была не одна. Я боялся ее сослуживцев в солидной форме речников с золотыми «крабами». Я пугался женщин, которые выходили из наркомата вместе с Наташей. Но еще больше я избегал встреч с ее матерью. А мать, как назло, часто отправлялась вместе с Наташей на работу и не менее часто возвращалась вместе с ней домой. Я встречался с Ксенией Павловной два раза. Оба раза знакомился — я просто боялся ее. Она работала в наркомате уборщицей, она была ее матерью, она…
Как я понимал, они уже давно, больше года, после гибели Наташиного отца, жили трудно. Теперь, с началом войны, совсем трудно…
И вот — «вырос» ли я? Это и радовало, и чуть обижало меня. Как вырос? Я всегда был не маленьким, а сейчас… Ведь она ничего не знает.
Мы встретились на Петровке, как договорились. У Пассажа. Я сказал, что так лучше. Мне просто не хотелось ждать ее у наркомата и опять видеть в окружении «крабов», взрослых подруг или вместе с матерью. Уже когда Наташа пришла, я подумал: «А может, и она не хотела показывать меня своим знакомым? Почему она так быстро согласилась встретиться у Пассажа?»
Стоило мне так подумать, и все наши разговоры приобрели какой-то странный смысл.
— Ты повзрослел, — сказала она.
«Значит, она считает меня мальчишкой!» — подумал я.
— А что в Доме пионеров? Как там? — поинтересовалась она.
«Значит, она думает, что я до сих пор хожу в Дом пионеров!» — отметил я.
— Хорошо, что ты не поехал. Кажется, ты собирался к родственникам папы? — спросила она.
«Папа! Еще недостает, чтобы она спросила меня, почему я не имею усов и бороды!»
А я ведь уже два раза брился отцовской безопасной бритвой. Правда, когда дома никого не было, и, может быть, специально ради нее. Даже порезался один раз. Я старательно сбривал пушок, но щетины не появлялось.
О бритье речь не зашла.
— Ну, а как твои родители? Как мама?
Она всегда спрашивала меня о родителях и обязательно о матери, хотя не знала их.
— А канал Москва — Волга тоже вам подчиняется? — неожиданно спросил я.
Это была хитрость.
— А почему ты интересуешься? Да, — подтвердила она, — подчиняется.
— Просто у нас газета канала Москва — Волга печатается, — объяснил я как можно спокойнее. — «Сталинская трасса» называется. Знаешь?
— Где — у вас?
Как раз именно такого вопроса я и ждал.
— В типографии. Я ведь в типографии работаю. «Московский большевик». Ну где «Вечерка» печатается, и «Московский большевик», и «Советский метрополитен», и другие газеты, — как можно внушительнее сказал я.
Мне показалось, что она поражена. И хорошо! Я и собирался поразить ее. Не работай я сейчас, как настоящий взрослый человек, мы, быть может, и не пошли бы в «Эрмитаж» на Утесова. Ведь и билеты на Утесова, страсть какие дорогие билеты, я купил из своей первой получки.
В парке было много военных. Я второй раз в жизни попал в «Эрмитаж», и впервые вечером. Мне не хотелось признаваться в этом, а она сама сказала:
— Как здесь хорошо! Я и не думала, что тут так…
В Москве было уже трудновато с питанием, а в «Эрмитаже» продавались бутерброды, и миндальные пирожные, и мороженое. По коммерческим ценам. Мы попробовали все.
И Утесова мы видели впервые.
— Тебе нравится? — спросил я под конец второго отделения.
— Очень!
Впрочем, я и сам понимал, что она довольна. Понимал по лицу ее, по тому, как она аккуратно сложила и спрятала в сумочку программу концерта, когда мы выходили из парка. Значит, будет показывать своим подругам.
Потом мы шли по вечерней полузатемненной Москве. Шли, как ходили когда-то до войны из Дома пионеров. Теперь Москва была не такая, как раньше, и все же это была она: людная, беспокойная, близкая.
У подъезда Наташиного дома мы сразу же попрощались: по радио прозвучал сигнал воздушной тревоги. Я заторопился. Пошел по Пятницкой, в сторону Красной площади. У Климентовского переулка я не выдержал и развязал шнурки ботинок. Отцовские ботинки, обутые специально ради сегодняшнего вечера, ужасно жали.