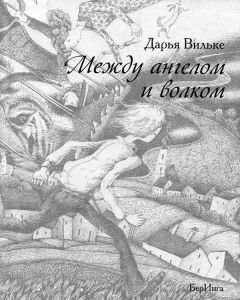— Мам, дай Фредлу еще сосисок!
И тот получает еще две — хотя мама и качает головой, поди поищи еще такого прожорливого гостя.
И ест их в тишине, и слышно, как сочно лопается шкурка сосиски.
— Теперь торт! — объявляет мама. И все немножко оживляются. Даже худенькая девочка, дочка нотариуса, не сидит больше, положив послушно руки на колени. «Руки по швам», — как любит говорить Вальтер.
Мама сделала торт со сливовым джемом и украсила его розочками из взбитых сливок.
Каждому досталось по куску, и Фредл сразу поник, поняв, что добавки не будет.
— Ну что, все? — спросил он, дожевывая свой кусок, — я пошел?
И выбрался из-за стола.
А за ним поднялись и сын Родла, и Карл, сын мясника, и Гарри, который Гаральд, и Франци с улицы за кладбищем, и худенькая девочка.
— Салют, Вольфи! — сказали они.
И ушли.
И дом только суетливо скрипнул дверью на прощание, провожая гостей.
«Ну и пусть, — думает Вольфи назло подкатывающим слезам. — Ну и пусть, зато у меня на плече сидит ангел, на всякий разный случай. А рядом — Вальтер».
— А тебе не кажется, что взрослые тоже все время стараются — ну как мы в школе? — спрашивает Вальтер, поболтав ногой в воздухе и намолчавшись. — К примеру, быть мамами и папами. И у них все время не получается.
— А что, запросто, — соглашается, подумав, Вольфи.
Цирк доезжает до Городка Ц. только в августе. Когда вечернее небо превращается в гулкий черный колокол, готовый стряхнуть на землю густой медовый перезвон осенних звезд. А то и не доезжает вовсе — циркачам городок слишком мал. И тогда мальчишки Городка Ц. забывают про цирк, будто и не было его никогда, а Вольфи тщетно высматривает с холма около улицы Источник — не покажется ли вдали обоз, груженый лоскутным шатром, клетками с животными и прочей цирковой всячиной.
На этот раз он все-таки приехал. Заржал, зарычал и затявкал пустырь около кабачка Сеппа Мюллера, задымился кострами циркачей, вздыбился разноцветным шатром, запах зверями и свежими опилками. Облепил стены магистрата яркими разноцветными плакатами. Вечерами у Сеппа теперь было весело: дрессировщик тигра и гимнасты, клоуны и глотатель шпаг приходили выпить по стакану пива и отведать знаменитых рыб на вертеле. А когда заканчивались деньги — у циркачей они все время сразу же заканчиваются, ворчал он — Сепп наливал им в долг. Или брал вместо денег билеты на представления, которые раздавал мальчишкам.
Вечером будет танец над бездной — без страховочной сетки, невиданный аттракцион, голосили афиши.
Циркачи целый день устанавливали машины, крепили на них стальные витые веревки, протянули из церковного окна до Замка нитку каната, курили у надгробья, впечатавшегося в бурую стену церкви. Не прогоняли мальчишек, путавшихся под ногами.
К вечеру на тонкую нитку навели прожекторы — они белым обхватывали ее, в световых столбах пылью плясала мошкара, ее было так же много, как публики внизу.
Без сетки, думает Вольфи, стоя внизу, задрав голову. Танец над бездной без сетки — так написано на цирковых плакатах. Как это — без сетки? Все ж таки окно колокольни высоко. А падать? Хотя, ведь если канатоходец будет падать, ему ж ничего не стоит за канат уцепиться руками? Я б точно уцепился. Наверное.
Жужжание голосов враз прекратилось, в сводчатом окне показался Канатоходец.
Вольфи знает, что Канатоходец — это директор цирка. Такой вот странный в этом цирке директор — несколько раз за гастроль забирается на тонкую нить над крышами города.
— Он говорит, ему совсем не страшно, — проговорил отец Весельчак, отчего-то вдруг оказавшись рядом.
— Почему? — спрашивает Вольфи. Наверное, любой бы боялся. Не бывает людей, которые не боятся ничего.
— А это как в жизни потому что, — тихо и непонятно отвечает священник.
— Вы его знаете? — недоумевает Вольфи.
А отец Весельчак только молча кивает головой.
Вольфи не мог вспомнить потом, какое у Канатоходца было трико и какой — шест. Только и смотрел, что на двухслойные подошвы — с темным овалом посередине, со светлыми краями. Овал вдавливался в канат, почти обнимал его, и было страшно, что Канатоходец упадет. За шаг до Замка темный кружок почти соскочил неловко, но тут же выровнялся. Представление закончилось.
Ребристые шиллинги, один за другим с тусклым звоном сыплются с ладоней в коричневую шляпу. Толпа расходится с площади, по-вечернему гулко стуча каблуками по брусчатке, задерживаясь у паперти и под липовыми деревьями. Циркачи убирают стальные канаты — суетливо, спеша, буднично.
— Я знаю, где взять мороженое, — заговорщицки шепчет в ухо Вальтер.
Мороженое — удовольствие такое же редкое, как и цирк, и такое же быстротечное.
В Городке Ц. всего один салон мороженого, летом на больших лотках здесь волнами лежит оно — клубничное, малиновое и ванильное, на площади стоят столики, окруженные плетеными стульями. Подтаивающие шары мороженого, стремительно теряющие пузатость, можно обменять на шиллинги до позднего вечера.
— Если успеть к закрытию, — яростно и жарко шепчет Вальтер в ухо, — собрать стулья, получишь мороженое за просто так.
Хозяйка салона улыбается одними уголками губ, глядя на их беготню со стульями, вытирает руки о передник, не скупясь, шлепает розового, бугристого, похожего на сказочную башню мороженого в вафельные рожки, обернув их тонкой салфеткой.
«Пошли?» — одними глазами спрашивает Вольфи. «Пошли», — отвечает глазами Вальтер. И пока у них еще остается немного времени до сна, можно пройти к вольеру с животными, если разрешат.
Больше всего Вольфи любит стоять около клетки с тигром. Он побаивается подходить прямо к прутьям — мало ли чего тигру взбредет в голову.
Клетка маленькая, слишком маленькая для такой большой кошки. Тигр все время ходит взад и вперед, не останавливаясь, эластично ступая и стремительно разворачиваясь, а под шкурой упругими буграми ходят мускулы — тоже как заведенные. Вольфи смотрит на тигра часами, не отрываясь, чувствуя, что можно протянуть руку и дотронуться до клубка мышц.
— Нравится? — посмеивается обычно цирковой директор — Канатоходец.
Он еще спрашивает! Конечно, нравится.
— Тогда поступай к нам, будешь циркачом, — смеется он еще больше.
— Правда можно? — не верит Вольфи.
А директор смеется и загадочно говорит:
— Все можно.
Только как же Вольфи оставит маму? Она каждый раз, когда он старается ей осторожно сказать, что когда вырастет, станет дальнобойщиком, пугается до полусмерти и берет с него обещание, что он никогда не уедет от нее далеко. Такие обещания выпрашивать нечестно, думает Вольфи. «Ну я же уже вырасту, — не понимает он. — Когда дети вырастут, они все равно же уезжают?» — «Уезжают, — неуверенно говорит мама. — А некоторые и остаются».
Они стоят с Вальтером и завороженно глядят на тигра: огромная кошка медленно гуляет по тесной клетке, и видно, как ходят под палевой шкурой ребра, как перекатываются бугры где-то там, где у людей плечи.
— А завтра по телевизору «Рыцарь Роланд», — вдруг говорит Вальтер. — Приходи к нам смотреть?
У Вольфи замирает сердце. «Рыцарь Роланд». Он один раз видел его, когда-то давно, и до сих пор помнит, как Роланд победил спящего великана, как подружился с врагом Оливером, ставшим ему верным другом. У Роланда в фильме смелое лицо — вот если бы вырасти и стать таким же, как он!
— В девять вечера, — добавляет Вальтер.
— Не могу!
Мама считает, что нормальные дети должны быть в девять вечера в постели, а не смотреть всякие фильмы про королей и рыцарей. Только тогда они вырастут «хорошо воспитанными и дисциплинированными».
Даже если несколько недель приносить из школы одни хорошие отметки, мама все равно не разрешит смотреть телевизор до пол-одиннадцатого — хоть дома, хоть у Вальтера в гостях.
«Не могу», — говорит он Вальтеру. Он очень-очень рад тому, что тот не выспрашивает, отчего да почему — и не приходится мямлить про то, что его рано загоняют спать, всегда.
Из вольера пахнет соломой, большим зверем и опасностью.
Вольфи думает, что он тоже как тигр — ему можно ходить только по клетке. Накормить-то его накормят, а отпустить — ни за что.
Брат старший вроде и есть, а видеть его нельзя — и самому не найти.
Но он все-таки попробует договориться с мамой — вдруг получится. Он, конечно же, не пойдет смотреть кино к Вальтеру, на это мама не согласится никогда. А вот посмотреть один-единственный разочек кино поздно вечером дома — вдруг разрешит.
— Понимаешь, — говорит он вечером маме, — этот фильм показывают реже, чем бывает Рождество, раз в сто лет, наверное. Если я вот не посмотрю его завтра, то может быть, в следующий раз его покажут, когда я уже буду совсем старый или даже вообще умру.