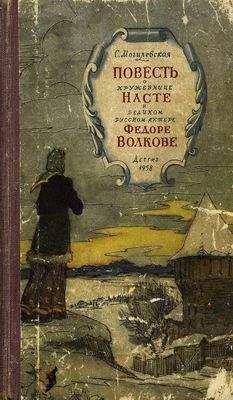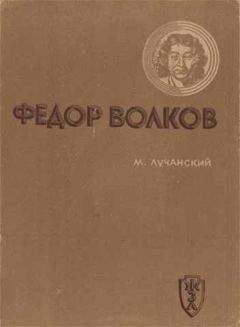Была в её лице, в голосе, во всех движениях милая подкупающая простота, непосредственность и вместе с тем какое-то настоящее, неутешное девичье горе...
— Смотри ты... — пробормотал Волков, разглядывая девушку.
Но, проговорив всего лишь несколько слов, Настя запнулась. А запнувшись, сразу смутилась и смолкла.
— Ты кто же такая? — спросил Волков и подошёл к Насте поближе. — Откуда ты?
Настя не ответила. Сделала было лёгкое движение, чтобы убежать из горницы, и не убежала. Будто заворожённая, смотрела на Волкова, прижимая к груди свой цветастый платок.
— Да откуда ты? — снова спросил Фёдор Григорьевич.
Взгляд его уже не был сердит. Он со всё возрастающим интересом смотрел на незнакомую девушку, так неожиданно очутившуюся среди них.
И вдруг из глубоких недр памяти возникло: и тот летний полдень, когда он возвратился из Москвы, и плетень, что тянулся вдоль дороги, и поющая за плетнём девушка, так внезапно убежавшая в глубину сада... Неужели это она, та самая? Вот эта, что стоит перед ним с такими испуганными глазами?
А память у Волкова была превосходная. Раз увидев человека, он навсегда запоминал его лицо.
И, улыбнувшись Насте, он весело спросил:
— Погоди, погоди... Ты почему ж убежала тогда?
Но Настя глядела на Волкова и слова не могла из себя выдавить. Давешняя смелость у неё пропала, а сейчас ей хотелось провалиться сквозь землю и от стыда и со страха.
— Нет, ты скажи, почему убежала? — продолжал Волков всё с тем же весёлым добродушием.
Наконец Настя чуть слышно прошептала:
— Испугалась...
— А сейчас?
— Ещё пуще боюсь!..
Совсем сконфузившись, Настя закрыла рукавом лицо и метнулась за дверь.
Волков загородил ей дорогу.
— Не бойся, мы не страшные, — сказал он, засмеявшись, и все, кто находились в горнице, тоже засмеялись.
Тогда Настя глянула поверх рукава сначала одним только глазком, потом и другим, а там и вовсе отвела от лица руку. И вроде бы совсем перестала бояться.
А Волков снова стал серьёзным и принялся задавать ей вопрос за вопросом: звать-то как? Настей? Чья она? Крепостная помещика Сухарева? Ну как же, как же, Никиту Петровича он знает. Нет, не знаком, однако как не знать!
— Грамотная ты, Настя?
Настя покачала головой: нет, бог не вразумил.
Волков подумал: да чего он спрашивает? Какая может быть грамота у крепостной! Но всё-таки...
— Настя, как же ты запомнила стихи, которые за Ваню говорила?
Опять к Насте вернулась смелость, и она с лукавым задором ответила:
— Уж как запомнила, не ведаю, а запомнила!
— А родом ты откуда? — спросил Фёдор Григорьевич снова.
— Из Обушков, — сказала Настя и, застенчиво краснея, подняла на Волкова доверчивые глаза: — Знаете, где наши Обушки?
«О златые, золотые веки...»
С этого самого дня для Насти наступила счастливая пора жизни. Волков сказал ей тогда же, на прощанье: «Коли хочешь, можешь приходить к нам, Настя...»
Да, так и сказал: коли хочешь, можешь приходить...
«Эх, Фёдор Григорьевич, Фёдор Григорьевич, какие слова ты сказал мне — коли хочешь...»
Поутру, чуть открывались у Насти глаза, все помыслы её были об одном: как бы скорее вырваться и бежать на Пробойную улицу, где в знакомой горенке каждый вечер читали то одну пьесу, то другую и где был он, Фёдор Григорьевич, так ласково её приветивший.
Натаскав полны кадки воды (а по воду ходить стало труднёхонько — из проруби приходилось брать: наступили морозы, и тяжёлыми льдами сковало Волгу), Настя поближе к вечеру отпрашивалась у стряпухи Варвары: «Можно теперь?» Та её отпускала безо всяких, полюбила ласковую, работящую девушку. «Иди, иди, ладно! Хватит воды-то...» И дед Архип, подняв голову от лаптей, которые плёл для всей дворни, негромко бурчал: «Не хватит — принесу за тебя. Примечай только получше, вернёшься — расскажешь...»
Так уж повелось с того первого вечера, когда, прибежав от Волкова, Настя принялась рассказывать всё по порядку — и как неприметно стояла она за дверями и сперва смотрела да слушала, и как потом в горницу ступила, и как не стерпела да начала говорить, и как сам Фёдор Григорьевич её хвалил.
В тот вечер впервые в закопчённой людской избе раздались звучные, непонятные и, может, именно своей непонятностью притягательные стихи Сумарокова.
Настина цепкая память схватывала почти всё, что она слыхала на читках. И то, что она потом рассказывала в людской, для всех, было похоже на выдуманные ею чудесные сказки, которыми она прежде тешила своих подруг в девичьей.
Её возвращения ждали. Лишь только распахивалась забухшая наружная дверь и Настя вбегала в избу, с печи или из дальнего тёмного угла раздавался нетерпеливый вопрос:
— Ну чего там нынче-то было? Сказывай...
И Настя начинала прямо с порога:
— Нынче у них комедию представляли. Про судью Шемяку. Сам Фёдор Григорьевич сочинил. Ох, смеху-то было! Ну все животики надорвали...
И тут начинала Настя своё представление. Одна на все голоса говорила, и за жулика судью Шемяку, который без мзды никак не мог обойтись. У него неправое дело правым становилось, лишь бы в руку деньги ему сунуть. И за умного его слугу Карпа говорила. И за глупую дочку купцову — Дашу. И за купца из Санкт-Петербурга Сидора Силуяновича Проторгуева... Хоть важный человек, а тоже жулик!
— А Карпа у них Яков Данилыч Шумской представлял! Сейчас покажу как...
До поздней ночи никто не ложился. От крепкого мужицкого смеха вздрагивало и колебалось пламя лучины, что горела на шестке.
— О-хо-хо-хо, — держась за живот, смеялась Варвара.— Да ты хоть бы перекусила малость, ведь голодная! — И она подсовывала Насте сбережённые для неё остатки еды.
Куда там! До еды ли! Настя прохаживалась пузом вперёд — ну ни дать ни взять сам пакостник и взяточник судья Шемяка!
— Ой умора! — хихикал беззубым ртом дед Архип.
— Вали, Настя! Так его, окаянного, так его! — Шлёпая могучими ладонями, подначивал рябой мужик Кузьма. — Есть правда на земле...
Скотница Аксинья хохотала до упаду, утирая слёзы краем подола...
...А в той горенке у Волкова Настюшка сидела тихая, как мышонок. Слова от неё никто не слыхал, если без надобности. Знала своё место — только смотрела и слушала. Щёки у неё горели жарким румянцем, глаза светились. И вся она была, как растеньице, что прежде чахло в темноте, а теперь, на свету, вдруг зацвело и зазеленело...
Иной раз Насте казалось, что Фёдор Григорьевич и не видит её и не знает, что она сидит сбоку, примостившись на краю сундучка. А он вдруг подойдёт к ней и спросит:
— Запомнила слова, какие сейчас Ваня говорил?
— Запомнила, — отвечала Настя и робея поднималась с сундука, на котором сидела.
— Повтори!
И Настя повторит слово в слово, ничего не пропустит.
— А теперь объясни, про что тут, — требовал Волков.
И большею частью Настя молчала. Молчала, потому что объяснить не могла: мало она понимала из того, что сейчас говорила. Просто запомнила по порядку, а о чём там, где же всё пересказать?
Тогда Фёдор Григорьевич принимался растолковывать ей всё самыми простыми словами. Терпеливо говорил, обстоятельно, понятно. А потом приказывал сесть обратно на сундучок и слушать дальше.
Настя садилась, а сердце у неё так и стучало. Не рассердился ли Фёдор Григорьевич на неё, на бестолковую? Вон как глянул. Строго, без улыбки... А вдруг нынче же и скажет: нечего тебе тут делать, совсем ты без понятия, девка...
А Насте легче умереть теперь, чем не бывать здесь, в этой горнице, не видеть ставших милыми её сердцу людей — и Ванюшку Нарыкова, и Якова Данилыча, и всех остальных.
Дня не может она прожить, чтобы не сбегать в дом на Пробойной улице, чтобы не поглядеть на них, чтобы не послушать Фёдора Григорьевича, речей его умных.
Белый свет обернётся для неё чёрной ночью, коли скажет он: «Нечего тебе тут, Настя, делать, не мешай нам больше...»
Не знала она, как часто Волков, говоря про неё своим товарищам, разводил руками:
— Диву я даюсь на нашу Настю! Откуда что берётся? Неграмотная, не понимает, о чём говорит... Но какая сила чувств! Какие краски и переливы в голосе... Этот алмаз будет прекраснейшим брильянтом, если его обработать!
...Случалось, что, устав после репетиции, кто-нибудь предлагал:
— Не спеть ли, братцы?
А петь они любили. И более других Волков. Чаще всего пели песню, которую он сам и сочинил.
Запевал обычно один человек: Миша Чулков либо Гаврила Волков. У них были красивые, мягкие голоса.
Начинали тихо и задушевно:
Станем, братцы, петь старую песню,
Как живали в первом веке люди...
Хор подхватывал припев, тоже очень тихо и проникновенно:
О златые, золотые веки!
В вас щастливо жили человеки.
Но с каждым повторением крепчал и наливался голос запева, и всё громче пел хор: