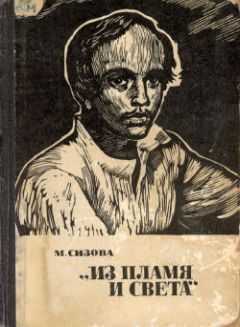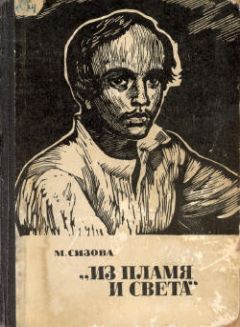— Ты хоть теперь-то не дразни его, Мишель! — сказал Столыпин, пряча невольную улыбку.
— Ну что ты! За кого ты меня принимаешь?! Но надо завтра же проведать Мишу Глебова. Как я испугался за него, когда он упал во время валерикского боя! Слава богу, что все обошлось раной в ключицу, хоть и серьезной… Я его и Трубецкого как настоящих друзей люблю. Валерик нас крепко связал… Но давай ложиться, утром — к коменданту. Итак, поздравляю тебя, Монго, — мы в милом Пятигорске, и впереди столько чудесных дней!..
* * *
Комендант Ильяшенко, усатый, ворчливый и добрый, действительно очень хорошо помнил Лермонтова.
И когда дежурный передал ему два свидетельства, составленные по всей форме, что офицеры Лермонтов и Столыпин, заболев в пути, нуждаются в лечении пятигорскими водами и должны пройти курс серных ванн, он проворчал себе в усы:
— Знаю я их болезни… Что у них там: ревматизм, разлитие желчи, печенка болит?
— Говорят, что золотуха и цинготное худосочие.
— Ха! — громко расхохотался комендант. — Это у Лермонтова-то худосочие? А у Столыпина что же?
— Говорит, ваше превосходительство, что тоже золотуха и тоже худосочие.
— Ха! Видали вы что-нибудь подобное? Что ж, им болезнь по родственной связи передалась?! Ну, где они там?
— В приемной, ваше превосходительство.
— Оба!
— Так точно!
— Зови обоих.
Ильяшенко, посмотрев на них, только покачал головой.
— Хороши больные! — сказал он. — Ну что вам здесь, в Пятигорске, надобно? Говорите.
— Мы жаждем прежде всего принимать ванны, ваше превосходительство, — начал Столыпин.
— А потом — повеселиться немножко, — закончил Лермонтов. — Я, ваше превосходительство, ей-богу, честно воевал, и пулям не кланялся, и опять их песни скоро услышу. Так позвольте уж здесь хоть немножко о них позабыть!
— Ну, уж что с вами поделаешь. Отдыхайте у нас. Только смотрите, — погрозил он пальцем Лермонтову, — без шалостей!
Зато флигель-адъютант Траскин, узнав об этом, решительно потребовал, чтобы так называемые «больные» были немедленно отправлены либо к месту службы, либо в военный госпиталь при крепости Георгиевской. Но поскольку поручик Лермонтов уже успел подать своему полковому командиру Хлюпину и рапорт и медицинское свидетельство, его начальству ничего не оставалось, как дать ему разрешение жить в Пятигорске «вплоть до окончательного выздоровления».
Это было 15 июня, в очень жаркий, медлительно потухающий день.
Старый сторож, возвращаясь с ночного дежурства, остановился: на скамейке у Елизаветинского источника опять сидел его старый знакомый — тот самый молодой офицер, который приходил сюда года три назад в те часы, когда спали все порядочные господа.
«Не иначе как контуженый!» — решил сторож и побрел домой.
А когда оглянулся, то увидел, что офицер вынул маленькую книжечку, что-то записал, потом вырвал листок и, разорвав его, пустил клочки по ветру.
«Чудное дело!..» — покачал головой сторож и, кряхтя, снова двинулся в путь.
Не успел он пройти боковую аллею, как к нему подошел господин, не поймешь, то ли барин, то ли вовсе мужик. Одежда господская, а обличье простое. И руки грязные.
Господин подошел к сторожу и остановился.
— Ну как, старичок? Кончил дежурство — и на боковую?
Он протянул сторожу свою сигарочницу, и старик, хотя никогда еще в своей жизни не курил сигар, взял одну и, не решаясь закурить, сунул в карман.
— Погода хороша, ах, хороша погодка! — незнакомец посмотрел на небо, потом по сторонам. — Я так полагаю, что вскорости начнет и публика собираться?
— Куда это? — спросил не очень любезно сторож.
— А в ресторацию.
— Вона!.. — Сторож почти с негодованием посмотрел на этого приезжего, не знакомого с пятигорскими порядками. — Ресторацию только через три часа откроют!
— Скажи пожалуйста!.. — с удивлением протянул незнакомец, поглядывая по сторонам. — А я вижу, офицерик какой-то сидит дожидается. Ну, думаю, значит, сейчас откроют.
— Это вы про кого? Вон про того, что на площадке-то?
— А разве есть и другие?
— Зачем другие, кому тут понравится в этаку рань? А тот офицер тут бесперечь на самой заре сидит.
— Что ж тут делать можно на заре? Не понимаю!.. Может быть, у него здесь свидание? А?
Незнакомец усмехнулся одним углом рта.
— Нет, не видал, — сторож покачал головой. — Так себе, сидит как дурачок, что-то записывает. Запишет — и сейчас в клочья и по ветру пустит. А сам новый листок пачкает. Контуженый он, или еще чего…
Он повернулся, чтобы уйти, но незнакомец дернул его за рукав старого кафтана и, сунув ему в руку монету, сказал, кивнув в сторону площадки:
— Они, эти контуженые, тоже разные бывают. Ты, старичок, поглядывай, а я тебя еще навещу. — И, заложив руку с тростью за спину, пошел к площадке.
И старик с удивлением увидел, что господин, раздвигая кусты, окружавшие площадку, что-то искал на земле! Наконец он нашел зацепившийся за ветку совсем маленький и ни на что не пригодный клочок бумаги и поднес этот клочок к глазам.
Тут уж сторож не выдержал. Он сердито плюнул и, проворчав что-то, пошел спать.
А господин дошел, оглядываясь, до середины боковой аллеи и остановился перед скамейкой, на которой, вытянув ноги, спал, похрапывая, по-видимому, приезжий, одетый в новый костюм, с ярким галстуком на шее. Руки его, протянутые вдоль тела, были не только грязны, но и расцарапаны.
Подойдя к нему, первый господин громко кашлянул и высморкался. Но так как спящий этого не услыхал, он нагнулся к самому его уху и громко произнес:
— Р-разрешите прикурить!
Приезжий открыл глаза и вскочил на ноги, еще ничего не понимая.
— Ишь, развалился по самой середке аллеи, как черт его знает что! — сказал первый.
— Виноват. Под самое утро сон одолел-с.
— А ты держись в исправности. Тут публика скоро начнет собираться.
Он закурил и присел на скамейку.
— Рассказывай все по порядку.
— Приехал вчерась, аккурат в самый дождик.
— Один?
— С денщиком, да сродственник его с ним, Столыпин, офицер.
— Где остановились?
— Перво-наперво у Найтаки, а после домик сняли наверху, возле верзилинского саду, изволите знать.
— Это где Мартынов с Глебовым квартируют?
— Вот, вот, как есть напротив. Забор там… — Он с опаской посмотрел на свои брюки. — Черт его знает… с гвоздями поверху!..
— Так, все понятно, На заборе сидел?
— Снизу ничего не видать было.
— Ты через людей старайся, через денщика его что-нибудь насчет друзей да насчет писания узнать. Понял?
— Никак невозможно-с через денщика. Он своему барину, извините за выражение, хуже собаки предан. Так в глаза и смотрит.
— Ты красненькую покажи.
— Не поможет, ваше благородие, это нечего и в мечтах держать. Как бы еще в морду не дал.
— Ну, ты ладно, ты полегче. На вот тебе за дежурство. Да узнавай лучше, нечего даром хлеб есть. Господин полковник нонче спрашивать будут.
— Что вы, ваше благородие, разве я не стараюсь!
— Там поглядим. Николай Егорыч приказали через неделю дать сведения. А ждать будет нас не в ресторации, а у генеральши, там удобнее. Понятно?
— Это которая Мерлини?
— Ну, ты поори еще погромче!..
— Виноват…
— То-то! По сторонам поглядывать надо. — Он вынул из бумажника маленький клочок бумаги, на котором было написано одно слово: «Иридия», посмотрел, перевернул бумажку и проговорил: — Черт его знает, имя, что ль, такое или земля какая запрещенная — этого и сам господин полковник не поймет!
Сердито бросив бумажку, он заложил руку с тростью за спину и пошел, насвистывая, мимо скамейки, на которой сидел, сняв фуражку, молодой офицер.
Это был старший помощник жандармского подполковника Кувшинникова, присланного из Петербурга «со специальной целью».
* * *
Лермонтов все не уходил. Над вершиной Машука вставало легкое облако, розовое от лучей еще невидимого солнца. Голубоватая дымка утреннего тумана окутывала подножие горы. Но солнце уже позолотило верхушки Бештау.
Восторженный птичий голос, повторяя все одну и ту же непонятную фразу, несся откуда-то сверху, со старой чинары. И с тонкой ветки высокого тополя, качавшегося от утреннего ветра, ему отвечал другой, и казалось, что повторял он с восторгом: «Видел Иридию! Я видел Иридию!»
Лермонтов слушал эти голоса со счастливым лицом и смотрел на верхушку чинары, куда упал первый солнечный луч.
В первое утро после их приезда в Пятигорске прошел дождь. На площадке у Елизаветинского источника, где собиралось обычно все здешнее «водяное общество» и откуда в ясные дни открывалась панорама горных вершин, в это утро публика появилась рано. В небольшой группе дам молодой гвардеец с рукой на перевязи громко рассказывал: