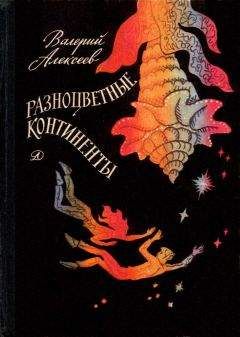— Отвлекаешься, — недовольно сказал Игорь Степанович. — И вот пожалуйста…
Написанная мною семерка начала пугающе расти, толстеть, наливаться ярким красным светом. Я поспешно написал на ее месте девятку. Все стало нормально.
— Ты, Андрей, напрасно меня увольняешь, — сказал Скворцов. — Ни одна машина не может заранее знать, что у тебя семью семь — сорок семь. А вот теперь посиди, порешай примеры, а я пойду погуляю. Что-то мне нездоровится.
Скворцова сменил Виктор Васильевич. Он благодушно уселся за кафедрой, устроился поудобнее (ему там было тесновато), зевнул и вдруг, взглянув на меня свиными глазками, произнес:
— Удивительное дело, я совершенно не чувствую себя уставшим!
Голова моя еще гудела от непривычной нагрузки, в глазах мелькали огненные цифры.
«Ну прямо! — не удержавшись, подумал я. — Чего же тогда зеваешь?»
Виктор Васильевич игнорировал мою реплику.
— Ну-ка, Андрейчик, — совсем по-домашнему предложил он, — повтори эту фразу три раза, только молча.
Я добросовестно повторил.
— Для начала не так уж и плохо, — похвалил меня Виктор Васильевич и снова зевнул. Я подумал, что он делает это нарочно, чтобы я не особенно напрягался. А я и действительно сидел как на иголках: ведь именно сейчас начиналось то самое, необыкновенное, по сравнению с чем понятные уроки Скворцова казались мне детской забавой. — Но смотри, что у тебя получается: «Удивительное… м-э… дело… чего тут удивляться, нашел чему удивляться… м-э… как там дальше-то?.. удивительное дело… забыл… чепуха какая-то… удивительное дело, что такой серый валенок…» Это ты меня имеешь в виду?
Воробьев настолько точно воспроизвел все, о чем я успел за минуту подумать, что я покраснел до слез.
— Ну, а о том, как ты второй раз повторил, и говорить не стоит, безжалостно и в то же время добродушно продолжал Виктор Васильевич. — Там пошли чьи-то удивительные глаза и вообще личные дела, которые меня не касаются…
Я готов был провалиться под парту.
— Это, Андрейчик, помехи. Если ты не в состоянии удержать такую пустяковую фразу, что же говорить о серьезном? Ну-ка, постарайся еще три разика, только, пожалуйста, без помех. Я понимаю, слово «удивительно» тебя волнует, но ты не волнуйся, а удивись. Удивись! Я удивился.
— Нет, ты не удивился: ты вытаращил глаза, глупо скривил рот, как двухлетний младенец на горшочке, да еще пожал при этом плечами. Не гримасничай, дорогой, я в кино тебе сниматься не предлагаю. Ведь это действительно достойно удивления: человек занимался математикой два часа — и какие два часа! — и при этом совершенно не устал. Странно и удивительно: совершенно не устал.
Я как раз устал, и даже очень, и фраза не лезла мне в голову.
— Ну да, ну да, — закивал толстяк, — математика утомляет, потому и удивительно. Ну-ка, три раза.
«Удивительное дело, — подумал я небрежно. — Я совершенно не чувствую себя усталым. Странно, я совсем не устал. А ведь действительно…»
И тут произошло первое чудо: звон в моих ушах затих, цифры перестали прыгать перед глазами. Я сидел спокойный, легкий, довольный и удивлялся самому себе. Только рука затекла: я держал карандашик без нужды слишком крепко.
— Да, рука, ручоночка, — озабоченно проговорил Воробьев. — Мы писали, мы писали, наши пальчики устали… Которая? Ну, разумеется, правая. Положи ее на стол и подумай: «Моя рука лежит на столе».
Я подумал.
— Превосходно! — возликовал Виктор Васильевич. — Стол жесткий, холодный и гладкий, а рука теплая и мягкая. Ей нравится отдыхать на столе. Она намного мягче пластмассы, не правда ли?
Я кивнул.
— «Моя рука намного мягче самой мягкой пластмассы». Подумай так. Хорошо. «Она теплая и мягкая».
Наверно, я заулыбался от уха до уха: рука отошла, пальцы благодарно зашевелились.
— Вот видишь, — с удовлетворением сказал Воробьев. — И это сделал ты сам. Одной своей мыслью и ничем больше.
«Ну прямо сам! — подумал я. — Обыкновенный гипноз».
— Ах, Андрюша, Андрюша… — укоризненно произнес Виктор Васильевич. — Ну разве я похож на гипнотизера? Это очень простое упражнение. Надо только подумать. Но подумать без помех. Настойчиво подумать, сосредоточенно. Нет, нет, не так, зачем ты бычишься и пыжишься? Сосредоточенно — вовсе не значит упрямо. Вот учитель тебе говорит: сосредоточься. Ты сделал озабоченное лицо, глаза твои опустели. В голове — салат из картинок, слов и даже отдельных звуков. А почему? Да потому, что нельзя сосредоточиться вообще. Можно сосредоточиться на чем-то, заставить себя думать в данный момент об одном, запретить себе думать о постороннем. А как?
Действительно, как?
— Дело вот в чем, Андрей. У каждого человека есть свое… назовем его так: «запретительное слово». С помощью этого слова, мысленно его произнося, человек гонит от себя ненужные мысли. У тебя тоже есть такое слово. Я его знаю, но необходимо, чтобы ты осознал его сам. Вот ты уже десять раз мысленно произнес одну неприятную для тебя фразу и всякий раз выключал ее одним и тем же словом.
«Какую еще фразу? — подумал я. — Что он мелет? Господи, какой же я тупица! Ай, ладно…»
Воробьев быстро поднял указательный палец.
— Вот, вот.
Я понял.
— Ну-ка, проверь себя, всегда ли ты пользуешься этим словом. Подумай о чем-нибудь неприятном.
«Не так он со мной занимается, — подумал я. — Как с дурачком, по облегченной программе. Ай, ладно…»
— Теперь так, — продолжал Воробьев. — Этим ключом ты можешь пользоваться для самоконтроля. Допустим, тебе надо ответить на вопрос…
Довольно быстро я понял, как надо обращаться с «ключом», как прерывать себя в уме, как возвращаться к тому, что подумал раньше. Мы поиграли в забавную игру «А собственно с чего это пришло мне в голову?». Все это было легко, я бы сказал — слишком легко для начала.
— Именно для начала, — успокоил меня Виктор Васильевич. — Потом я научу тебя, как избавиться от этого слова. А не то в голове будут сплошные ладушки: «ладно» да «ладно». Ну, утомился? А теперь повтори: «Удивительное дело, я совершенно не устал».
«Удивительное дело… ай, ладно!.. я совершенно не устал!» — подумал я.
Это было несложно, но до полетов под куполом еще ой как далеко!
В столовой после уроков я наконец увидел всех ребят вместе. Славка и Лена сидели за одним столом с круглой толстенькой девчонкой, которую я раньше не видел. Как я понял, это и была та самая невидимая Рита Нечаева. Ее внешность меня разочаровала: было бы намного лучше, если бы она была похожа на Соню или хотя бы на Лену. Я сразу прозвал про себя Риту «Черепашкой». А она, увидев меня, порозовела и низко наклонилась над тарелкой. Славка с Леной переглянулись и стали смеяться. Бедная Черепашка, она не умела блокироваться! Ей не помогло бы, даже если бы в эту минуту она стала невидимой.
Соня Москвина сидела с двумя переростками, которых я тоже видел впервые. Один из них, широкоплечий, со светлыми глазами и наголо остриженной головой, усердно кушал. Другой, кудрявый, с русыми волосами до плеч («сердцеед», сказала бы моя мама), разглядывал меня с любопытством.
Я подошел к столу, назвался:
— Андрей Гольцов, — и протянул руку сперва стриженому (он мне показался заводилой), потом кудрявому.
— Олег Рыжов, — сказал стриженый.
А кудрявый манерно привстал и произнес:
— Боря.
— Ну что, Софья, попало? — спросил я.
Соня пожала плечами.
Мой вопрос ей, как видно, не понравился. Но не обязан же я подлаживаться под любое настроение.
Сесть рядом с ними мне никто не предложил, поэтому я устроился за отдельным столиком. Это было, разумеется, неприятно, но я не люблю напрашиваться.
В столовой было тихо, все ели молча, время от времени вопросительно поглядывая друг на друга. Потом вдруг Славка сказал что-то вслух Черепашке. Лена фыркнула, а Черепашка расстроилась.
— Вредина ты! — сказала она Славке, взяла свою тарелку и встала.
Я решил вмешаться, и у меня были на то причины.
Я поднялся, подошел к Черепашке и сказал:
— Садись ко мне.
Она колебалась.
— Садись, чего там, — повторил я и помог ей перенести вилки-ложки и стакан с компотом на свой стол.
— Меня зовут Андрей, — сказал я, когда мы сели. — А тебя?
Она недоверчиво посмотрела на меня, но, в конце концов, я не так уж и фальшивил: я же не видел ее в лицо, всё были только догадки.
— Рита, — ответила она. — Рита Нечаева.
— Давно ты здесь?
— С мая.
— Нравится?
— Ничего.
— Что-то у вас здесь ребята недружные, — заметил я.
— Почему? — тихо отозвалась Рита. — Мы дружим.
— На каникулы домой ездила?
— А у меня нет никого.