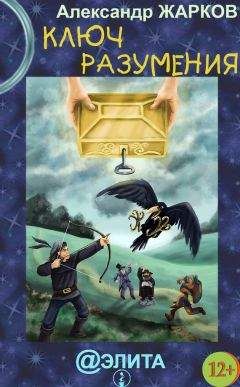– Микки, Микки, это я тебя погубил! – он тронул рукой стрелу. – А стрела-то?! Это моя стрела! Никто не смеет брать мой колчан, никто, разве что… – И тут сверху, из кроны ближайшего к яме дуба тихо свистнули. (Ох, полюбили свист в мятежной Деваке!) Опытный боец, услышав такой свист, отпрыгнул бы в сторону, но Метьер никогда не участвовал в войнах, Робина Гуда он победил в мирном поединке. Итак, он задрал голову и глянул прямо в глаза смерти, потому что вслед за свистом из листвы выскочила стрела и вонзилась ему в шею между кадыком и подбородком. Это была тоже е г о стрела, только пропитанная быстродействующим ядом, таким сильным, что он не успел даже додумать о том, что брать его стрелы и так классно стрелять может только его лучший друг, почти брат – Коль Метеор. Уже мёртвый упал Метьер на спину, задев обезьяну левой рукой, и та рухнула на него, прикрыв человека своим обезьяньим телом.
А стрелявший спустился с дерева и внимательно посмотрел в яму.
– Теперь Я буду первым лучником Деваки, а может, и мира, – сказал он тихо и надменно, и, выставив вперёд ногу и уткнув руки в боки, представил на миг, как ему рукоплещут все, а особенно юная Светлина, и цветы, цветы… – второй лучник страны Коль Метеор был ещё младше Метьера, ему было восемнадцать лет!
Через непродолжительное время он стоял навытяжку в тайной комнате дворца и докладывал неприметному человечку об убийстве своего лучшего друга, почти брата.
…А в самой большой зале шёл пир победителей: господа, то есть, извиняюсь, товарищи ремесленники и крестьяне, гуляли. Да гуляли не при свечах: вся зала была освещена каким-то иллистрическим светом, или лампами Алыча, как их называли. Потому что полное имя пропавшего без вести в толстяковских тюрьмах доктора Гаспара, изобретателя этой роскоши, было Гаспар Алыч Арнери. Прислуживали празднующим победу бывшие вельможи и аристократы. Плохо прислуживали, без сноровки, уменья и удовольствия, за что и получали периодически по мордам. Кстати, параллельно с пиром, прямо за столами, решались государственные вопросы, что на время правления Просперо станет обычным делом. А сегодня, прямо между переменой блюд, его всенародно избрали президентом, вернее, закрепили избрание шампанским. А вслед за тем решали, что делать с арестованными, главным образом с толстяками, и, конечно, с главным палачом Ангором Антаки.
– С однофамильцем твоим, – как громко бросил Тибулу прекрасно всё знающий Просперо. Толстякам Просперо предложил сохранить жизнь, но отправить их на север, в специальную зону для исправительных работ.
– Кроме Младшого, – вставил Тибул. – Не курит, не пьёт, полон энергии и потому опасен. Надо казнить.
Раздватриса решили казнить однозначно, и не позже, чем завтра, то есть уже сегодня. Впрочем, постановили, что окончательно решит народный зритель на площади у большой арены. – Разошлите глашатаев по ближним деревням и в город, – приказал президент. – Ну и хватит вопросов на сегодня. – И он решительно рубанул ладонью воздух. – Такой праздник: победили вековых эксплуататов! Гуляем, в основном. А кто сунется с государственными проблемами – во! – и он показал собравшимся свой увесистый кулак.
Просперо был оружейник, а точнее, кузнец, среднего возраста гигант с горящими глазами и горячим сердцем, силач, способный кулаком убить тигра, что он и сделал недавно, когда толстяки решили позабавиться, и, арестовав его, бросили в клетку со зверем – людоедом.
– Сперва я хотел животную пожалеть и только оглоушить, – рассказывал он простодушно, – но когда этот людоед бросился мне на грудь, тут уж… взял грех на душу.
А как его тридцать гвардейцев арестовывали, а он их играючи по сторонам раскидывал, это отдельная песня.
– Но в клетку я всё ж-таки пошёл добровольно, у эксплататов в руках семья моя была: жена с дитёшками.
И вот этот кузнец стал первым человеком страны, её президентом. Сегодня, на сороковом году жизни он впервые выпил вина – в Деваке оно называлось отдохновином. До этого он пил только воду, и отдохновин развязал ему язык. Он сидел и рассказывал, какая их всех ожидает распрекрасная жизнь. Потом он совсем наотдохновинился, стал путаться, и его увели отдыхать.
А товарищ Исидор, ещё недавно подвизавшийся в одной труппе с танцовщицей Суок, и которого она до сих пор называла Тибул, сидел рядом с этой маленькой крепенькой циркачкой с пухлыми губками, с раскрасневшимися щёчками, держал её, как бы по дружбе, за руку, и еле сдерживался, чтоб не расцеловать. Вместо этого он предлагал и ей, и сидящему напротив Тутти, отрыть первый в мире революционный театр-цирк и школу для дрессировки тигров-людоедов, обезьян и прочих.
– У нас богатый зверинец и всё это принадлежит народу, а ты будешь первой дрессировщицей! – и всё пожимал её крепкую ладошку. Он был давно и безнадёжно влюблён в Суок. Тутти, ещё вчера наследник толстяков, зыркал на них, как волчонок, и в то же время важно кивал головой и предлагал что-то своё. Его имя уже исправили, теперь он звался Ревтутом, то есть революционным Тутти. Он сидел с перевязанной рукой и немного недопонимал, что уже не наследный принц. Но был горд, что ему порезали в стычке руку и оказалось, что у него кровь такая же красная, как у всех людей, а не голубая, как внушали толстяки. Президент Просперо взял его под своё крыло, и он всю ночь просидел за столом рядом с ним, ревниво наблюдая… ну, сами знаете за кем.
Ближе к утру мимо разгорячённого планами и близостью Суок товарища Исидора прошёл неприметный человечек и тихо свистнул – вот, опять этот свист! Никто и внимания не обратил, тем более что человечек мог свистеть, не открывая рта. Через минуту Тибул, извинившись, вышел из залы. В длинном коридоре он подошёл к большому, от пола до потолка, портрету похожего на Страуса первого короля Деваки, которому расшалившиеся революционеры уже пририсовали какую-то закорючку ниже пояса. За портретом находилась тайная комната, в которой обитал неприметный человек. Тибул прислонился спиной к портрету, и, как вы, наверно, уже догадались, тихо свистнул.
В ответ он получил внятный шёпот прямо в ухо: «Мэ уже мёртв, Рэ уже далеко».
– Интересно, смог бы я пройти сейчас по канату? – возвращаясь в залу, спросил себя Тибул, не зная, как справится с переполнившей его радостью. Слишком быстро и удачно он провернул это дело! Он попросил натянуть в зале «какую-нибудь толстую верёвку» прямо над столами между двумя балконами. И, не залезавший на канат по крайней мере года три, хладнокровно прошёл над головами под рёв и аплодисменты пирующей черни, с сегодняшнего дня ставшей рабоче-крестьянской аристократией. Особенно восторженно хлопала Суок, несмотря на зверские взгляды Ревтута. Глупыш! Он не понимал, что хлопала пятнадцатилетняя танцовщица не двадцатисемилетнему «старикашке Исидору», она аплодировала мастерству великого канатоходца Тибула, не более того, а влюблена была всё же в перекошенного от злобы Тутчонка. Господи, ну для кого мы ходим по канату?!
А Тибул шёл по верёвке, и пел, не раскрывая рта: «Мэ уже мёртв, Рэ уже далеко, Метьер уже мёртв, Раздватрис уже далеко…» Он был в прекрасном настроении.
…А теперь, если б мы с вами, мои читатели, через минутку после того, как Коль Метеор убежал во дворец, заглянули в яму, то увидели бы вот что: неизвестно откуда на её дне появился человечек в чёрном плаще и чёрной шапочке, с обмотанной вокруг шеи разноцветной бородой – настоящая радуга в миниатюре. Человечек, прислонив обезьяну к стене, склонился над убитым Метьером, закрыв его плащом. Прошло секунды три – раз, два, три – и ни его, ни Метьера не стало, они пропали, как и вовсе не бывали.
А может, мы с вами вообще никакого человечка бы не увидели, если б он этого не захотел. Тогда бы увидели мы, как обезьяна со стрелой в виске поднимается и шлёпается спиной к стене, а тело Колобриоля просто исчезает.
А куда он исчез, один, или с человечком – пока неизвестно. И вот вопрос юным и прочим читателям: бывает ли так, что герой книги погибает в самом начале? До свидания, до следующей главы!
Глава восьмая
Кое-что из прошлой жизни танцмейстера и палача
Старинная чёрная карета с задраенными сиреневыми окнами тряслась по булыжной мостовой ближайшего к толстяковскому парку северного городка. Она была украшена палкой с привязанным к ней символом победившей революции – красным флагом, сильно напоминающим рубаху. Как говорится, чем богаты! Светало. А внутри кареты пока была ночь, освещённая еле тлеющим, но тоже по-революционному красным фонариком, висящем на гвозде между окон. Беглецы ехали молча, наконец Ангор, не дождавшись объяснений, прервал молчание.
– Куда ты везёшь меня, Пупс, и по чьему приказу? – спросил он, сурово сдвинув мохнатые брови.
– По чьему приказу, и сам толком не знаю. А везу не я – возница, он, должно быть, знает, куда. Честное слово, вы не должны беспокоиться! – испугался он вдруг своего тона. – Вас спасучивают от неминучимой смерти ваши вернючимые друзья! Чего вам это, плохо? – проговорил он скороговоркой, выпучив от усердия глаза. – Ой, спутался…