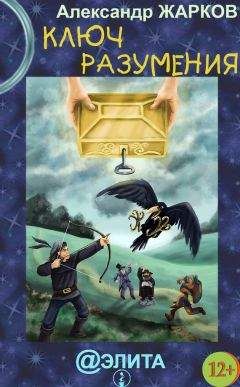– Нет, это не моя заслуга, – говорил он, – это природный талант, Ангор, ты – палач от Бога!
Хотя мы-то с вами должны знать, что никаких палачей от Бога не бывает. Ведь Бог есть любовь, и он дал людям заповедь: не убивай!
– Мой сыночек, моя кровинушка, – гордился палач, хотя иногда недоумевал:
– Чегой-то он сильно рослый? Я чегой-то не такой. И уши у него чегой-то не большие и не оттопыренные, а маленькие и прижатые. То есть, он сам большой, а уши маленькие, а я-то сам маленький, а уши большие – вот в чём загвоздка – о! И ничего моего, честно говоря, кроме жестокости, я в нём не наблюдаю. Неуклюжесть какая-то, мне несвойственная. Вообще, кого-то он мне напоминает, но точно не мать, и не мужа её!
Но однажды он всё понял: как-то у дворца встретился им второй толстяк, по прозвищу Страус. Ангор к тому времени уже подрос. Долго смотрел на него Страус, долго смотрел на Страуса Ангор. Но Ушастому одного мгновения хватило взглянуть на них, стоящих рядышком, и ледяной ужас ожёг его: они были похожи, как две капли, только одна капля была постарее, но такая же большая и неуклюжая!
– Сколько тебе лет, кто твоя мать, и что ты делаешь во дворце? – три вопроса задал толстяк, и, услышав три вразумительных ответа, кивнул головой и абсолютно походкой Ангора ушёл в свои покои, а Ушастый тут же поехал в деревню к Метью, и она ему во всём созналась. Дело было вот как.
Когда Метью первый раз привезли во дворец, Страус её увидал, и, вероятно, отметил. И вот ближайшей ночью Ушастого вызвали по каким-то срочным делам, он оделся, сказал:
– Дорогая, я сейчас… – и вышел. Конечно, вызов был организован нетерпеливым Страусом, который, как только Ушастый вышел из спальни, тотчас туда и вошёл, оставив личную охрану у дверей. Минут через пятнадцать он вышел, и едва успел отойти за коридорный поворот, как вернулся Ушастый:
– Прости, дорогая, ложный вызов, – сказал он
– А разве… – начала, пробудясь от полусна «дорогая», она хотела сказать: – А разве сейчас на перине рядом со мной был не ты? – но вовремя прикусила язык. Потом, кое по каким признакам, она поняла, что минувшей ночью между двумя посещениями Ушастого, она приняла Его Величество второго толстяка, при этом почти не проснувшись. А тот, хотя и был неуклюжим, но что хотел, сделал быстро, проворно и успешно.
– Больше у меня с ним свиданий не было, – прибавила Метью, – не потому, что он не хотел, а потому, что Вы мне нравились больше, – польстила она палачу.
– Значит, так, – решил после её исповеди Ушастый, – Ангор – внешне похож на Страуса, а внутренне на меня, то есть он действительно Ангор – в переводе, сын двух отцов, и это не в каком-то переносном, а в самом прямом смысле. Такое бывает, но очень редко… я где-то читал… потом вспомню. В общем, это чудо! – то есть, ну никак Ушастый не хотел отказываться от отцовства. Почему? Да потому, что его переполняло гордостью, что он некоторым образом породнился с Его Величеством, отпрыском, между прочим, одного из самых древних королевских родов!
А Страус, поняв, что Ангор его сын, хоть и незаконнорождённый, приказал освободить его от должности помощника палача – ему это было неприятно – и назначить главным церемониймейстером и танцмейстером двора. Во как! Очень Страус танцы любил. И его не волновало, что сынок был неуклюжим, как… как папа Страус. Ангор был вынужден натянуть на себя трико – брр! – и балетные туфли. Но выпросил всё же, хоть иногда, пусть редко, помогать Ушастому, уж очень ему была по сердцу палачья работа. Страус поморщился, но согласился, единственный сыночек всё-таки. Нет, вру! Был у толстяка и ещё один сын, от законной жены. Но тот давно сбежал из дома в поисках приключений, и где он был сейчас, неизвестно, да и жив ли? У двух других толстяков законных детей не было, да и незаконных… нет, у Младшого, кажется, был… но он хранил это от всех в тайне. А чей же сын был единственный наследник, по имени Тутти? Его подбросили ещё младенцем прямо на балкон к первому, самому старшему толстяку, по прозвищу Дохляк, привесив записку: «Твой сынок Тутти». То ли в насмешку подбросили, потому что Дохляку уже тогда было семьдесят лет, то ли как… Но Дохлячок очень к «сыночку» привязался, и добился – а слово первого толстяка было решающим, – что Тутти был всенародно объявлен д е й с т в и т е л ь н ы м его сыном и наследным принцем. Тутти удивительно повезло, что Ангор только догадывался, что он – сын Страуса. Если б он знал это точно, то есть что он может претендовать на престол, Тутчонка давно бы похоронили!
Итак, нескладный деревенский парень Ангор Антаки, не дотянув и до семнадцати лет, был назначен главным церемониймейстером и танцмейстером двора. А Дохляк приказал, чтоб ещё и учителем танцев наследника Тутти. Страус согласился. Может, он подумал, что Ангор как-нибудь в танце придушит наследничка, и сам таковым станет, а может, что другое подумал, не знаю. Ангор пришёл к прежнему танцмейстеру в надежде чему-то научиться. Но тот совсем от дряхлости обезножил, и почти ослеп, и не смог ему ничего показать, лишь тихо болботал что-то непонятное. Ангор разобрал только: «Раз-два-три, раз-два-три-с», и решил почему-то, что это самое главное. С тем и пришёл на свой первый бал. Танцы на балу шли заведённым порядком и без него, он только неуклюже бегал по всей зале и командовал: «Раз-два-три-с, раз-два-три-с!» Так что одна дама, известная острячка, громко сказала, наведя на него лорнет:
– Господа, это Раздватрис какой-то! – Многие рассмеялись, но не все расслышали, и тогда, улучив минутку, свободную от музыки, она крикнула, чтоб слышали все:
– Господин… э… господин Раздватрис, покажите, пожалуйста, танец па-де-де-де-труа-де. Я хотела бы его выучить!
Ангор раздумывал буквально две секунды, его не смутило, что такого танца не существует, он этого не знал, он кивнул головой, крикнул музыке подстраиваться, и начал вытворять какие-то солдафонские штуки, какие-то гимнастические упражнения. Это было мрачно, тяжело, и до того бездарно, что могло сойти за новое слово в искусстве. Закончив, он поклонился насмешливой даме, и попросил её повторить, но она быстро ретировалась за спины и смешалась с толпой. Вот с этого вечера Ангора и прозвали Раздватрисом. Но через месяц подобные танцы обязаны были танцевать все! А острячка-дама не сразу, но вскоре исчезла в застенках Ушастого.
Новый танцмейстер и церемониймейстер отличался от старого тем, что все свадьбы превратил в похороны. Не только в переносном – то есть всё было тяжело и мрачно, – но и в прямом смысле. И если первое время над его деревянной пластичностью смеялись в открытую, то очень скоро перестали, а самые умные стали орать: «Гениально!» А кто всё-таки рисковал потешаться, не в глаза, конечно, то это уже были потешки сквозь близкие слёзки, потому что успехи его на поприще палача просто поражали, и какой-нибудь хохотун, смеявшийся над ним вечером на балу, ночью лобызал его туфлю возле клеток со зверями, и платил немалые деньги, чтоб не попасть к ним, зверям, на ужин в качестве мясного блюда. Тогда Ангор ещё брал деньги.
К двадцати годам Раздватрис стал весьма богат, и построил в родной деревне дом, трёхэтажный, дорогой, но мрачный, почти без окон и с грязно-сиреневого цвета стенами. Сиреневый был любимый цвет Страуса и его. Здесь он отдыхал и развлекался один, или с гостями. Был там, например, помянутый Бонавентурой «курятник». В огромной пустой зале пол был застелен душистым сеном, и от стены к стене, на приличной высоте тянулись серебряные жёрдочки с круглыми сиденьями, на которых сидели одетые в костюмы курочек деревенские девушки, и кудахтали, будто яички несли.
В залу вбегали наряженные петухами гости Ангора, частенько среди них были и такие солидные, как генерал Бонавентура. «Петухи», кто как мог, выкапёривались перед «курами», хлопали крыльями, кукарекали, подпрыгивали, чтоб дотронуться до ножек, или ручек, в общем, вовсю покоряли куриные сердца. И когда уже в ход шли сладости и золотые монеты, курочки обычно не выдерживали, соскальзывали вниз и уединялись с петушками в специально устроенные в соседней зале гнёздышки. Иногда в роли петушка выступал и сам хозяин, которого тотчас узнавали по росту и особенной наглости, и долго с ним не препирались, что было опасно. Но и сдавались тоже не сразу, чтоб он не принял это за поддавки. А вообще каждая наседка молилась, чтоб э т о т петух её миновал.
Иногда Раздватрис зазывал в гости тех, кого считал своими недругами, а чтоб попасть в этот список, достаточно было, чтоб он только п р е д с т а в и л себе, что у кого-то по отношению к нему недружелюбные мысли. Вот этих выдуманных врагов запускал он в петушиных масках в курятник и в разгар их сладострастных танцев, врывался в костюме коршуна с резиновой палкой в руке и под игривую музычку навеки испуганного тапёра, спрятанного в укромном месте, и, как бы играя роль хищной птицы, лупцевал дорогих гостей по петушьим головам и по чему ни попадя. Причём разгорячённый и мстительный танцмейстер не разбирал никого; доставалось и курочкам, и насесты крушились – он был достаточно силён. Побитых оттаскивали слуги и кидали протрезвиться и смыть кровь в бассейн возле дома летом и внутри дома зимой и превращали их воистину в мокрых куриц и петухов. Благоразумным, прежде чем их выгонят пинком под зад, оказывал первую помощь личный врач Ангора, а недовольные остаток ночи проводили в башне пыток, филиал которой был тут же, в доме.