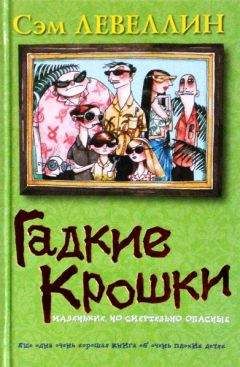Сам тот город не найдешь, сам в ворота не пройдешь. А ежели заблудился, да случайно набрел — оглянуться не успеешь, как за стеною черною окажешься. Нету в том городе жителя коренного — все, что ни есть, пришлые. И рады бы отсель бежать, да токо ворота городские в одну сторону открываются — зайти-то можно, да выйти нельзя. Побьется бедолага вновьприбывший о ворота головою, покричит, повоет, — да и затихнет. Плетью обуха не перешибешь, телом хлипким стену железну не проломишь. И идет бедняжка в улицы гулкие, во дворы голые. «Ничего, — думает, — обживусь. Нету места такого, чтобы человек русской да не обжился!» Ищет он, где голову преклонить — ан все ворота-двери заперты. Целы домища пустые стоят, окнами черными друг на дружку глядят — а попасть в них никакой возможности. Помается бедолага, в двери прочные стуча, жильцов выкликая, да и прикорнет где ни есть — то ль на улице у стеночки, то ль на лестнице темной, при ступенях холодных. Народу-то в городе черном уймища, да вот беда — не видят люди друг дружку, не слышат. Всякому кажется, что один-одинешенек он в этом городе огромном. Само странно, что ни тебе едева, ни тебе питева, ни крыши приютной над головой, — а люди-человеки все не мрут, а как-то маются. Ежели в другом каком месте без воды-то — так за три дня, сказывают, помрешь. А тута — другое дело. И неделю, и месяц, и год будешь воды искать да жаждою мучиться — а все как бы живой. С голоду, кажись, и крысу съел бы — да нету крыс. Ни мышки, ни кошки, ни голубя квелого, ни пса приблудного. Да хоть и травки пожевал бы — так и трава в этом городе не растет! Ходят по улицам люди, друг друга не видят, питье да пропитание ищут. Со временем забывают и имя свое, и жизнь былую. Со временем и мысли-то человечьи у них как бы высыхают — токо глаза от голода и жажды горят, ровно угли на кострище.
Вот он какой, город этот черный. Тыщи лет стоял, ни историк, ни путешественник ведать про него не ведал. Стоял бы и по сей день, коли не женщина одна — слабая, да собою не видная. Заблудился у нее сыночек маленькой — пошел с ребятишками в лес гулять, да не вернулся домой. Вот и пошла мать несчастная сыночка искать. А с собою в дорогу взяла сына милого игрушку любимую — куклу Неназванку. Лицо у Неназванки белое да гладкое — ни глаз, ни носу, ни рта хоть бы какого не нарисовано. А вот любил сыночек куклу эту больше всяких других. Подарила ему Неназванку сию бабка старая. А как дарила, матери-то говорила: «Хоть и проста моя кукла, да собою не красочна, ты ее береги. Не поможет она дитятку твоему ни против болезни, ни против злодея, ни ямы против, ни перекладины супротив. Но поможет она против того, чего и знать не знаешь, и ведать не ведаешь. Незнаемого супротив ее личина белая, незрячая. Так береги!»
Вот с энтою-то куклою в котомке, да с водицею в плетенке и отправилась баба горестная сыночка искать. Шла-шла, да и пришла к городу черному. Видит — у ворот бамажка лежит, от карамельки знакомый фантик. Стало быть, проходил здеся сынок милый! И хотя не глянулся женщине город тот черный, да что делать — вошла она в ворота железны, за стены каменны. Видит: улицы пусты, дома агромадны, трубы чадящи, машины железны гремящи, да тополя мертвы, к небу тяжелому торчащи. И ни единого человека, пусто вокруг — ни голоса, ни дыханьица, ни сердечного трепыханьица… Испужалася баба — да всяк бы испужался! А кукла-то, Неназванка безлицая, в котомке заворочалася да говорит человечьим голосом: «Тесно мне тута да темно, выпусти меня!» Достала баба Неназванку и на руки взяла. Кукла головою вертит, ровно живая, да бабе докладает: «Много чего видала, а теснотищу таку в первый раз вижу! Это как же народу стоко здеся помещается? Яблоку негде упасть, шагу негде без опаски ступить!» Удивилась баба на речи такие странные, да удивленья не выдает, а спрашивает: «А не видишь ли ты, Неназваночка ненаглядна, сыночка мого маленького?» «А как же, — отвечает кукла, — вижу родимого, хозяина своего любимого! Вона у стеночки каменной сидит, да слезы льет, мамку зовет!» Встрепенулася бедная мать, да хоть ты криком кричи — не видать ей сыночка. А мальчонка-то, у стеночки сидя, от голодухи забывался, слышит вдруг голос чей-то. Поднял головушку и видит: прям в воздухе кукла его любима парит, будто ангел какой! Встал мальчонка, да к Неназванке, от слабости спотыкаяся, бегом. Добежал до нее, ручонками за ножонки холщовы, сенцом набиты, ухватился, куклу обнимает, к сердцу прижимает. И как обнял он Неназванку безликую, так и сомлел. Токо что город пуст был, как колодец пересохший, и глянь — уже народ толпится вокруг, что на рынке в день воскресный! И люди все такие черные, ровно мумии — жалко смотреть. Глядит мальчонка, а над ним матушка склонилася, в щечки исхудалы его цалует, да из плетенки бутыль с водою достает. Напился мальчик, а в бутыли ничуть не убавилося. Оглянулся — вкруг него уже толпа жаждуща собралася, и все на воду с жадностью глядят. Отдал мальчик бутыль кому поближе, и пошла она по рукам — всем воды хватило, все напилися. Лица у людей посветлели, в глазах разуменье появилося, речь, до сей поры иссохшая, с уст заплескалася. И все об одном: как из города проклятущего на волю выбраться? Матушка с мальчонкой к воротам пошли, потолкали, да за ручку железну подергали — и впрямь, не открываются ворота. А Неназванка безликая к воротам затылком кудельным повернулась, да голосом громким крикнула: «Знать не знаю! Ведать не ведаю!» Ой что тут началося! Ворота заскрипели, голосом дурным замычали, да и распахнулися. Стены каменные задрожали, да березнячком легеньким обернулися. Дома черные как шары сдулися — одни пеньки старые трухлявые от них осталися. А вместо труб дымящих сосны высокие с небом просветлевшим зашепталися.
Стоят люди, рты поразевамши, да от радости плачут. А Неназванка птицею белой обернулася, да из рук мальчонковых в небо упорхнула — только ее и видели. Пошел народ счастливый в разны стороны: кто на север, кто на юг, кто на запад, кто на восток. И всяк живой-невредимый до дому своего добрался, где его и ждать-то отчаялися. И баба бедная с ребятенком своим домой вернулася, от радости сама не своя. Токо мальчик по дороге нет-нет, да всплачет — жалко ему куколки, игрушки своей любимой!
Далеко-далеко отсюда, в деревушке на краю земли, живет старичок святой. Только он-то, конечно, и знать не знает за собою никакой святости. Просто живет, хлебушек жует, лапти плетет, да на печи греется, как зима придет. И ведать не ведает, что в руках его, от работы огрубевших, да на солнышке почерневших, сила включена богатырская, а в глазах, от старости подслеповатых, огонь ясный укрыт, без которого всем зрячим что свет, что тьма — все едино. Не знают про старичка того люди добрые, да знает темь ненасытная, зло жадное. Ищут они дедушку этого, чтобы силу волшебную отнять, да огонь ясный погасить. Ищут-то ищут, а найти никак не могут: деревень-то на Руси — многие тыщи, а уж старичков — и того больше! Поди угадай, кто из них — тот самый дедушка наиглавнейший!
С виду он — ничего особенного. Книжек не читает, философий но проповедует. Все по хозяйству суетится, да не больно шибко — здоровьишка маловато. В поле супротив домишка старикова колодец стоит. Вот за колодцем тем дедуля и присматривает, такое у него занятье общественное осталося — единственное по слабости сил, да по дряхлости лет. И не знает дед, что в колодце том, на самом донышке, ключ лежит. Да не тот, которым замки открывают, а тот, которым огни подземные запирают. Коли достать ключ этот со дна колодезного — разом все двери из подземья пооткрываются, и лава горячая землю зальет по макушки самых высоких гор. Знает темь ненасытная про тот ключ, да опять же — поди его сыщи! А коли и сыщешь — так то еще полдела. Так тяжел от мира подземного ключ, что поднять его со дна колодезного только старичок, силы своей не ведающий, может, да сам ангел черный Сатана, некогда ключ сей потерявший. Рыщет потаенное войско ангела черного по земле в поисках потери драгоценной, да на старичка согбенного вниманья не обращает. Не приходит злыдням на ум их кучерявый, что этакого человечика слабосильного да подслеповатого мог Господь в хранители жизни определить. Все богатыря супостаты высматривают, ворота крепкие, да замки цепкие… Ну и слава Тебе Господи — пусть и дале высматривают!
* * *
Ах, не пугайся,
Милый малыш:
Если ты плачешь —
Значит ты спишь!
Завтра проснешься
Цветочком в саду,
Птичкой на ветке,
Рыбкой в пруду!
Быль, наигравшись
В страшную сказку,
Завтра отбросит
Черную маску!
Будешь как новый,
Милый малыш…
Плакать не надо —
Ты ведь не спишь!
* * *
Однажды ночью в январе,
Когда метель мела,
Мне иней вывел на стекле
Дурацкие слова.
Я ничего не сочинил,
Я это видел сам!
Взял карандашик, заточил,
И быстро записал.
Но теплый ветер поутру
Мое окно умыл,
И про ночную ерунду
Я начисто забыл.
С календаря срывались дни,
А на сердце — тоска:
Ах, я нигде не смог найти
Дурацкого листка!
Наверно сжег его в печи
Подслеповатый дед,
И облака в дыму прочли
Слова, которых нет!