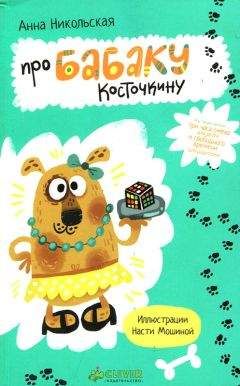Я сидел на треноге и никак не мог сосредоточиться и решить, чего бы мне такого пожелать. Вдобавок у меня над головой расхаживали Песочники, и это отвлекало от правильных мыслей. Лишь только я нащупывал одну, нужную, она хихикала и убегала в неизвестном направлении.
Я сидел на треноге и разглядывал свои руки. Свои светло-синие руки…
Точно!
Как же я раньше об этом не подумал!
Принцесса сказала, что это теперь навсегда. Даже если я найду Стража и уговорю его вернуться домой, все равно все останется по-прежнему, на своих местах. И как же мне будет житься дома — таким синим снаружи и, главное, изнутри?
Очень плохо будет житься — вот как!
— Ты пожелал или нет? — нетерпеливо спросили Песочники из-под потолка.
— Пожелал! — выпалил я.
— Отлично. Сейчас я прочитаю заклЭнание, а потом ты озвучивай. Только громко и без запинки. А то мало ли что…
— Что?
— Да мало ли… — уклончиво ответили Песочники и стали читать заклЭнание:
Мубара и Арабум —
Тишина и громкий шум.
Арабум и Мубара —
Столб высокий и нора.
Мубара и Арабум —
Напряги немного ум.
Арабум и Мубара —
Все! Загадывай! Пора!
— Желаю, — крикнул я во все горло, — чтобы Мерзавчики стали обратно Принцами!
Я ужасно хотел стать снова розовым. Ужасно. Но ведь Принцам там, в морковном бассейне, было еще ужаснее, а желание было одно.
И только я так крикнул, все вокруг поплыло, закружилось и меня вместе с треногом подхватило волной и куда-то понесло.
Последнее, что я увидел, были мои Песочники.
Обмякшие, они валялись на полу и с гордостью мне улыбались.
И эта гордость, кажется, была за меня.
Глава 25
Квартира № 27 (моя)
Несло меня долго. Наверное, целую вечность, хотя я затрудняюсь сказать наверняка. Возможно, меня несло всего какую-то долю секунды. Но за эту долю — тут Песочники оказались правы — я успел о многом подумать.
Я думал, например, о том, какая красивая у меня мама и как сильно я ее люблю. Не за то, что она такая красивая, конечно. А за то, что… За то, что…
Да просто за то, что она мама моя. И даже теперь, спустя триста лет, она останется моей мамой, и мы еще с ней увидимся.
Может быть, не в Так и, может быть, не в Иначе, а в каком-нибудь другом месте. Но все равно я уверен, что мы с ней увидимся.
И тогда мы пойдем с ней гулять. Мы будем долго гулять по нашей аллее на проспекте Ленина и разговаривать.
Или нет. Лучше мы сядем пить чай. Точно!
На кухне! Все вместе!
Мама заварит не очень крепкий чай, как любим я и папа, застелет наш круглый стол белой скатертью, поставит вазочку с вареньем (которое она сама покупала), а еще — тарелку с пирожными картошка (или что-нибудь подобное, но только обязательно очень вкусное), и мы позовем папу.
И он, конечно, сразу прибежит, хлопнет в ладоши и скажет:
— Ну что? По чайку сбацаем?
И на это его «сбацаем» из комнаты придет Аделаида в песочниках и скажет что-нибудь, типа:
— Сладкое детям до года есть вредно!
Дайте мне лучше протертый суп с фрикадельками!
Но потом она все равно сядет с нами и станет есть сладкое — варенье, картошку — вместе со всеми. А Бабака (да, она тоже будет здесь)… А Бабака станет подливать нам в чашки горячий чай и рассказывать смешные истории про японскую контрразведку.
И мы все будем смеяться и держаться за руки, потому что мы всегда так делаем, когда сидим за нашим круглым столом. И пусть со стороны это покажется «ужасно мило», а нам плевать, и мы все равно будем делать, как захотим. Ведь мы же семья, и даже когда мы ссоримся или уезжаем в отпуск не всей семьей, то мы все равно — семья. Даже когда между нами триста лет, все равно!
Все равно!
Все равно!
— Все равно он опоздает, вот увидите! — я услышал папин голос.
Я так обрадовался!
Господи, как же я обрадовался!
Но это был не папин голос. Точнее, это был папин голос, но не моего папы. Это был голос папы Кирпичева.
Сам папа Кирпичев, живой и невредимый, стоял в каких-то рыжих кустиках в окружении своего живого и невредимого семейства — матери и дочери Кирпичевых (причем не в виде пижам, а в своем естественном, натуральном виде). Он стоял посреди моей (!) комнаты в черном смокинге и в бакенбардах.
«Когда он их успел отрастить? — подумал я. — И что это за кустики кругом?»
В руке папа Кирпичев держал бокал с шампанским. Это в одной. А в другой — какое-то колесо. По-моему, это даже было то самое…
Но это было еще не самое удивительное.
Когда я огляделся, то понял, что это была не моя комната.
С одной стороны, конечно, она была моя, а с другой — совершенно не моя, а чужая. По ней, увеличенной раз, наверное, в 20–21, разгуливали совершенно чужие и посторонние мне люди.
Все они были в черных смокингах и в бальных платьях, и все как один с бокальчиками в руках.
Да, неплохо они тут без меня устроились!
Эти уважаемые дамы и господа (не знаю даже, как их по-другому назвать) фланировали туда-сюда по моей комнате (За триста лет в ней произошли колоссальные перемены. Кто-то настелил на пол дворцовый, не побоюсь этого слова, паркет, развесил по стенам парадные портреты, а к потолку приделал люстру на тысячу свечей.) Так вот, фланировали они по моей комнате, попивали шампанское и негромко переговаривались. Все это происходило на фоне нежной фортепианной музыки и шелеста дамских вееров.
А за роялем, между прочим, сидел не кто иной, как мерзавец Котович.
Он играл в четыре руки с каким-то громилой в фиалковом фраке.
Я подошел к ним поближе.
— A-а! Костя! — обрадовался мне Котович. — Знакомься, Костя, это мой коллега по цеху и сердечный друг Собакевич. Гениальный, конгениальный пианист! Очень, очень рекомендую!
Я был немного удивлен такой перемене в их отношениях.
Собакевич между тем мне мило улыбнулся (у него оказались желтые собачьи клыки, а у Котовича — усы, как у кошки), и они заиграли дальше. Я хотел спросить у Котовича про синий чай и зачем он так со мной поступил, но тут меня кто-то стукнул по плечу.
Во все стороны полетели перья.
— Костя! Как же я рад тебя видеть, старина!
— Господин Гусь? Вы?! Но…
— Да, Костя, да! Они выросли! — Гусь, весь в пуху и перьях, просто светился от счастья. — Теперь я даже не знаю, куда их девать. Каждый день набиваю подушки, перьевики шью — открыл небольшой комбинат — а они все лезут и лезут! — Гусь счастливо рассмеялся. — Представляешь, лезут и лезут!
— Вам перья очень к лицу, — я был искренне рад за птицу.
— Спасибо! Спасибо тебе, сынок!
— А мне-то за что? — удивился я.
— Ба! Костя! Сколько лет, сколько зим! Передо мной стояли молодожены Альпенгольдовы и ласково держались за руки. Оба были, в отличие от меня, розовые. Натурального телесного цвета.
— Ну, как ты? Еще не забыл наши пальцы? — подмигнул мне Альпенгольдов. — Фондюшница-то у нас сломалась, так мы барбекюшницу прикупили! Шашлычки, сосиски-гриль жарим — объедение! Ты заглядывай к нам почаще!
— Непременно, — пообещал я, ныряя от них в толпу.
Мне показалось, что у жены Альпенгольдова опять не хватает двух пальцев. Бр-р-р-р!
— Куда же ты, Костя!
А пирожка? Отведай моего пирожка! — кто-то сунул мне в рот кусок пирога с грибами.
Или с ягодами — я проглотил, не распробовав.
Это был уже не Альпенгольдов, а Пампасов — тоже в смокинге и с деревянным ружьем наперевес. Руки, ноги и голова у него были теперь на месте.
— Я, ты знаешь, бросил охоту, — доверительно затараторил Григорий Христофорович, хватая меня за руки (тут я заметил, что у него на запястье поверх старой татуировки «Всем покажу!» было написано «Все в лес!»). — Я сейчас все больше по грибы и по ягоды хожу. В Черницкий район езжу на маршрутке, за кладбищем — сразу налево. Ох, и богатые там места, доложу я тебе!
— Да что вы своими грибами ребенку голову морочите! — вклинился в наш разговор какой-то румяный и пышущий здоровьем хряк. — Ему в консерваторию, между прочим, надо поступать, на хоровое отделение! У него, между прочим, талант!
— Хавроний? — удивился я.
В последний раз, когда я его видел (он же был и первый), Хавроний был жареный, с печеным яблоком во рту.
— Я самый! — на Хаврония было любо-дорого посмотреть. — Смотался на недельку в отпуск, отдохнул, искупнулся — теперь как новенький!
— Понятно.
— Ты вот что, послезавтра мне позвони. У меня местечко в ансамбле освободилось. Я попридержу его для тебя. Заметано? — он подмигнул мне бесцветным глазом.