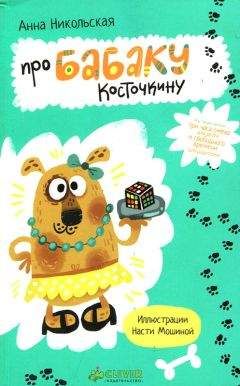— Заметано, — пообещал я, вырываясь из его объятий и ввинчиваясь в толпу.
— Костя! Как хорошо, что я тебя наконец нашла!
Опять двадцать пять! Ну, кто там еще?
— Это МЫ его нашли, а не ВЫ, дорогая Маман!
Передо мной посреди рыжих кустов стояли Маман и башенка из мальчиков. Точно такая же, как в двадцатой квартире, с той разницей, что теперь их было не семеро, а девять. Двое новорожденных сидели у башенки на макушке и улыбались мне беззубыми ртами:
— Па-па! Па-па!
Я поспешил ретироваться. Но многодетная мать бросилась за мной. Ей явно чего-то от меня было надо. Уж не самого ли меня? — ужаснулся я, скрываясь за дверьми туалета для мальчиков.
Странно, раньше в нашей квартире был совмещенный санузел.
В туалете было пусто и пахло лавандовым освежителем воздуха. Я облегченно вздохнул, открывая кран и подставляя руки под теплую воду. Мои синие руки, мои синие…
— Не переживай так, Костя, — услышал я и вздрогнул.
Я почему-то решил, что в туалете никого, кроме меня, больше не было.
Я огляделся — точно: никого больше не было.
— Ты в зеркало посмотри.
Я посмотрел. В зеркале был Фома Фомич.
— Нет-нет, я Зазеркальский, — сконфузился Зазеркальский в зеркале.
— А-а-а… — я не стал скрывать разочарования.
— У тебя все нормально?
— Да, вроде бы… — мне не хотелось вдаваться в подробности с отражением Фомы Фомича.
— Ну, я тогда пошел? А то извиняющимся тоном сказал Зазеркальский.
— Стой! Раз ты здесь, знач и Фома Фомич тоже?
— Был. По маленькой нужде. Но сейчас он ушел к гостям. Ты извини, мне тоже туда надо. Не обижайся, ладно?
— Ну, о чем ты, — ответил я, закручивая кран.
Выходит, Фома все-таки здесь!
Выходит, что я его все-таки нашел?
Нашел, да не совсем!
Я бросился к выходу, за Зазеркальским, но дорогу мне преградили Головорезы Зайцевы.
Я это сразу понял — по запаху, хотя так бы их не узнал.
Головорезы выглядели… гм-гм… как бы это точнее выразиться? Совсем не по-головорезовски. Напомаженные усики, набриолиненные проборчики, наутюженные костюмы. Не Головорезы, а картинка!
— Вы что, тоже теперь больше не Головорезы? — спросил я.
— Тоже! Тоже! — радостно закивали Зайцевы.
— Я так и знал.
Казалось, что все соседи, которые самым возмутительным образом собрались в моей квартире и что-то там непонятное праздновали, ступили в одночасье на путь истинный и были теперь абсолютно счастливы! Абсолютно — вы только подумайте!
Все, кроме меня. Я чувствовал себя лишним на этом празднике жизни, в своей собственной квартире.
— Только вы уж, пожалуйста, — попросил я Зайцевых, — на старую дорожку не ступайте.
— Мы не ступим! — стали заверять меня Зайцевы. — Не ступим! Нет!
— Ну и молодцы, — я по-отечески похлопал бывших головорезов по плечу и вышел из туалета.
По коридору шли парами Синие.
Правда, они были уже не совсем синие — я был гораздо синее их. Они дружески мне улыбнулись и прошли мимо.
— Вы что же, больше не Синие? — уточнил я, заранее зная ответ.
— Нет.
— Ясно.
— А мы тоже больше сатирических куплетов не поем, — сказали Пончик и Горячий Шоколад, которые бежали вприпрыжку следом за Синими. — Мы завязали.
— А что вы теперь поете?
— Ничего. Мы завязали.
— Правильно, — согласился я.
Их пение мне никогда не нравилось.
Я решил вернуться в свою комнату, то есть в бальный зал. Фома Фомич наверняка там.
По пути мне встретилась старуха Буренкина. На поводке она вела корову, которая, в свою очередь, на поводке вела собаку породы сеттер, которая, в свою очередь, на поводке вела хомяка неизвестной породы. Все четверо радужно улыбались и были, казалось, тоже безмерно счастливы.
Потом я встретил семью Коли Полтергейстова, вокруг которой больше не было рамы. Без рамы вели себя непринужденно: кусали друг друга за фруктовые носы, щипали за яблочные щеки и тоже казались ужасно веселыми. Я даже им чуть-чуть позавидовал.
Следующим мне повстречался господин Вонючка, которого я сразу не узнал.
Он был совсем не таким противным, как представлялся из мусоропровода и каким я сам себе его представлял. Мы перекинулись парой дружеских фраз и расстались приятелями. Он пообещал мне никого не надувать в города, а я снова пообещал раз в неделю приносить ему голубцы.
Уже на пороге зала мне встретился Человек-Кактус под руку со Старушкой. На ней было элегантное белое платье, которое чертовски ее молодило, а на голове — рыжий сиамский кот. Мы обменялись светскими любезностями, а после Человек-Кактус долго благодарил меня за то, что он больше не одинок.
— В апреле у нас с Алисой свадьба, — краснея, сказал Человек-Кактус.
— Примите мои искренние поздравления, — я был очень рад за этого, в общем-то, неплохого кактусообразного человека.
Я поспешил дальше.
Но чем больше я спешил, тем сильнее опаздывал. Когда я спрашивал у своих незваных гостей, не видели ли они Фому Фомича, мне неизменно отвечали:
— Он только что был здесь.
Или:
— Он на минуточку отлучился.
И еще такое:
— Через мгновение он будет перед вами.
Я бродил по переполненному залу — кругами, квадратами, прямоугольниками. Я прочесал его вдоль и поперек. Я шел в поисках Фомы Фомича, и мне казалось, что я иду уже даже не триста лет, а всю тысячу или пятьсот тысяч лет.
За эти годы Фома Фомич Флорентийский, мой Страж и горе мое луковое, стал для меня уже не рыжим хомяком с прокушенным ухом и родинкой на носу, а Птицей Счастья Завтрашнего Дня — как в старой-престарой песне. Птицей Счастья, на погоню за которой я растратил такую короткую и такую длинную-длинную-длинную жизнь.
У меня болела и кружилась голова. Фигуры и лица вокруг слились в большую лепешку, и эта лепешка кружилась вместе с моей головой в каком-то глупом танце. Она глупо улыбалась и глупым голосом говорила:
— А у нас теперь все хорошо, спасибо! У нас все очень хорошо, спасибо! Все просто замечательно, спасибо! Великолепно, спасибо!
— Тик-так, тик-так, — тикали рядом с ухом невидимые часы. — Тик-так, тик-так…
Тик-так, тик-так — часы идут,
Спешат куда-то вечно.
И хоть секунда — много тут,
Но и она конечна.
Твоя секунда истекла,
Ещё чуть-чуть осталось.
Она тянулась, как могла,
Но все ж секунда — малость.
Тик-так — стучится в голове.
Как будто вторит кто-то,
Что ровно в 20:22
Закроет Страж ворота.
Ворота из Иначе в Так
Захлопнет безвозвратно,
Тогда пути тебе никак
Уж не найти обратно.
Забудешь дом родной тогда,
А город свой тем паче.
Ведь ты навечно, навсегда
Останешься в Иначе.
Они тикали громче и громче, они заглушили музыку Собакевича и Котовича, заглушили голоса Альпенгольдовых и Полтергейстовых, смех Человека-Кактуса и господина Гуся, топот танцующих ног Маман и ее девятерых детей…
— Торопись! — сказал у меня в голове голос, похожий на голос Песочников. — Твоя секунда на исходе!
Я судорожно заозирался в надежде увидеть наконец Фому Фомича, но лепешка из соседей плотнее и плотнее сжималась вокруг меня:
— Спасибо! — шептали они, и их горячее дыхание обжигало мне лицо.
— Спасибо! — говорили они, и их голоса впивались мне в уши.
— Спасибо! — кричали они, и…
— ПОЖАЛУЙСТА! — изо всех сил заорал я. — Фома Фомич, ну, ПОЖАЛУЙСТА!
И вдруг лепешка вокруг меня, плотная лепешка из соседей, разломилась пополам, и в ее серединке я увидел Фому Фомича.
И как я раньше его не увидел? Я был изумлен. Потому что не увидеть его раньше было просто невозможно.
Фома Фомич, мой маленький домашний грызун, был огромнейшим.
Его туловище уходило под потолок, а, учитывая то, что высота потолка в моей бывшей комнате тоже была ненормальной, учитывая это, голову Фомы Фомича я смог разглядеть только в подзорную трубу. Она как раз валялась тут, в кустиках.
Кустики, кстати, оказались частью Фомы Фомича. Точнее, его мехом (он рос у него на задних лапах и хвосте).
Удостоверившись в трубу, что это тот, кто мне нужен, я крикнул:
— Фома Фомич, милый, это я!
— Громче кричи, — посоветовала мне Принцесса Морковка крошечным ртом.
Она стояла рядышком в окружении незнакомых мне мальчиков.