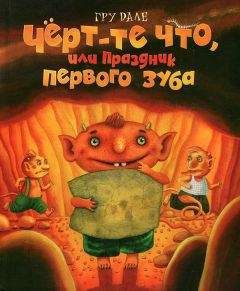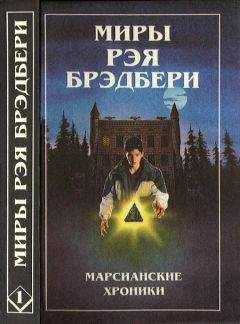Слова Ибн-Кошмарыча засели у него в печёнках, и с тех пор Бамбуль не мог думать ни о чём, кроме подушки. Он знал, что, будь у него такая нежная, такая добрая опора для головы, жизнь его сразу бы наладилась. Тогда б он меньше расстраивался из-за зубов, из-за того, что он, похоже, подменыш и что нету него друзей. И он не был бы так чертовски одинок. Он мог бы всё рассказать подушке, пожаловаться ей и поплакаться, и она бы всё поняла. Потому что подушки так устроены.
Глава 2
Злыдневна охотится на стоножек
Чего Бамбулю в жизни не хватает, так это подушки. А ещё — чтобы зашатался наконец хоть один молочный зуб. Сколько он ни дёргал перед сном все зубы по очереди, всё без толку — ни один не шелохнулся.
А лежать головой на камне, между прочим, больно. Бамбуль крутился-крутился, ворочался-ворочался и треснулся со всей силы головой о стену. От этого удара в квартирах людей на земле зазвенели люстры и стаканы, а птичьи стаи вспорхнули с деревьев и полетели искать прибежище поспокойнее. Люди приняли этот толчок за небольшое землетрясение. Думаю, они переглянулись удивлённо и прильнули к окнам — узнать, что стряслось. Довольно скоро всё стихло, но в нору к Бамбулю уже ворвался папа Бабадур. Суетливо шлёпая по земле хвостом, отчего во все стороны полетела пыль, он нервно заголосил:
— Три ведра вонючей сажи! Тысяча людей! Чем ты тут занимаешься? Хочешь, чтоб всё это рухнуло нам на голову?
Бамбуль стоял перед папой и поскуливал, потирая рану, а тот смотрел на него жёлтыми слезящимися глазами, хмурился и гундел:
— Это очень, очень плохо. Никуда не годится! Если ты будешь колотиться башкой о камни, тебе злость в голову ударит. Отравишься.
Бамбуль заскулил и стал скрести себя когтями и чухаться, от обиды у него заныла спина, а кончик хвоста, обычно горделиво закрученный залихватским колечком, повис и волочился по пыли, как дохлый дождевой червяк.
— Ну как ты держишь хвост?! — тут же вскрикнул папа Бабадур и укоризненно пустил пар изо рта. — Почему он висит у тебя как сопля? А если мама увидит? — Он испуганно вздохнул, несколько раз качнулся вперёд-назад и тогда только спросил: — Это ты из-за зубов так звереешь? — Он наклонил голову набок и вперился своим жёлтым-прежёлтым глазом в Бамбуля. — Рот открой!
Папа тщательно ощупал и подёргал все зубы Бамбуля. Сперва нижние, потом верхние, затем ещё разок нижние — один за другим. Он изо всех сил вцеплялся в зуб своими крючковатыми пальцами и начинал крутить его, тянуть и раскачивать так, что челюсть, казалось, вот-вот хрустнет и сломается. Бамбулю было чертовски больно.
— Ну что ты будешь делать?! — Папа покачал головой, вздохнул, пыхнул. Вдруг оживился и сказал: — Знаешь, давай-ка ещё разок посмотрим. — И немедленно приступил к новой проверке.
— Ой! — вскрикнул Бамбуль и стиснул зубы.
Папа Бабадур выдернул палец у него изо рта и насупился.
У Бамбуля остался во рту привкус сажи, копоти и железа. Горький и тошнотный, очень гадкий.
— Тьфу, тьфу, тьфу, — долго отплёвывался он, пачкая пол, а потом вымолвил: — Дело не только в зубе.
— Вот как? — Бабадур взглянул на него вопросительно.
Бамбуль замялся, не зная, как продолжить. Не скажешь же: папа, хочу подушку. Тут такое начнётся! Огонь из ушей, дым изо рта, крики, грохот и осыпавшийся потолок… Мало не покажется. Бабадур нахмурился и выжидательно смотрел на Бамбуля. Тот собрался с духом и начал:
— Камень-подголовыш ужасно твёрдый. У меня от него раны на голове.
Старый чёрт фыркнул так, что пыль поднялась столбом.
— Сажа-перемажа! — только и рыкнул он в ответ, повернулся и пошёл вниз по коридору, пыхтя и сопя так, что в норах и ходах на его пути завихрились ураганы, а на земле поднялся странный ветер.
Он шёл откуда-то снизу, вздымая в воздух песок и пыль и развеивая их над просёлочными дорогами и пустырями. И какая-то непонятная вонь отравляла воздух.
— Опять что-то в атмосферу выбросили. Совсем природу загрязнили! — говорили люди, многозначительно качая головой.
Бамбуль ходил все дни как наказанный, со страхом ожидая каждого вечера. Ему казалось, что он вряд ли переживёт ещё одну ночь на жёстком подголовыше. «Потому, наверно, все тут под землёй такие противные, — горестно думал он, — и злыдни, и черти, и гоффлокки, и нечисть разная, что подушек нет. Спят на чём попало, вот и лаются целый день, и шипят, гадости друг дружке говорят. Во всех тёмных коридорах, щелях и лазах до самого раскалённого центра земли стоит поэтому вечный крик, везде склоки и скандалы. Вот из-за чего у нас, чертей, отрыжка и вкус во рту такой, словно мокрицы наплевали. Вот почему у нас тут никогда никого не целуют, не гладят и не обнимают».
Если верить добрым сказкам мудрейшего Ибн-Кошмарыча, то на земле лица людей всё время озаряет свет улыбок. Бамбуль видел такое однажды, когда бабушка Злыдневна нашла в земляной похлёбке-затирухе мозговую кость. Тогда от её улыбки в норе так посветлело, что стало видно каждую дырку и трещину в полу, каждый бугор и выступ в коридоре. Все перестали жевать и с набитыми ртами таращились на Злыдневну. Она тут же прикрыла рот лапой и извинилась. Потому что где это видано, чтобы черти улыбались? Им это не пристало.
Но Бамбуль не забыл той улыбки, наоборот, он часто вспоминал её и удивлялся, что бабушка, которая вообще-то страшна как чёрт и гораздо уродливее всех его знакомых, так похорошела тогда. Её острые жёлтые зубы заблестели, широкая улыбка растянулась от уха до уха, глаза сузились, зато ноздри раздулись, и на губах, как язычок пламени в прогоревшем костре, заплясала улыбка. Он не совсем понял, что случилось тогда с бабушкиным лицом, но это было прекрасно. И в его голове никак не укладывалось, что такая чудесная вещь считается отвратительной и строго запрещена.
Бамбулю иной раз и самому приходилось прятать улыбку. Не то чтобы жизнь под землёй давала повод много смеяться, но всё же, когда папаша Бабадур споткнётся, например, о валяющихся на полу новорождённых бесенят или когда старший братец Бавван опрокинет себе суп на пузо, Бамбулю приходится изо всех сил сжимать губы, чтобы не улыбнуться. Смех так и рвётся из него наружу, как пузырьки на кипящей лаве. Не то чтобы улыбка была преступлением, просто чертям улыбаться не положено. Поэтому, если мелкий несмышлёныш вдруг заулыбается, ему тут же отвесят оплеуху или двинут под дых, и дело с концом. А вот если так нарушит приличия взрослый бес, все смущённо отвернутся, как будто и не видели ничего.
Когда Злыдневна в тот раз улыбнулась, все так себя и повели — отвернулись и стали любоваться потолком и стенами. Злыдневна она и есть Злыдневна. Что со старухи взять? С причудами бабуля, все знают. Она ещё и не такое отчебучивала: однажды вообще смеяться вздумала. Это когда её засыпало стоножками. Они хлынули сквозь щель в своде, и никто охнуть не успел, как Злыдневна вся оказалась усыпана этими букашками. Они залезли ей в нос, в уши и давай щекотать. Она не утерпела и расхохоталась, да так, что потекли и слёзы, и сопли, и слюни. Брр, что за гадкое зрелище! Все черти, кто, к несчастью, стали его свидетелями, зажмурились и закрыли глаза руками, а детей, и Бамбуля тоже, шуганули прочь. Но он часто вспоминал потом эту историю, всё думал, почему же чертям нельзя смеяться. Нет, конечно, вид у смеющегося беса отвратный, но ведь улыбка — это совсем другое дело. Почему даже она считается верхом неприличия?
Он спросил об этом Ибн-Кошмарыча, и тот ответил, что улыбки — это что-то вроде подарков, которыми люди каждый раз обмениваются при встрече.
— Такой у них обычай, — сказал Ибн-Кошмарыч и криво улыбнулся для наглядности. — А нам с тобой положено всё делать не по-людски, значит, и улыбаться нам никак нельзя. Хотя строго между нами, — прошептал Ибн-Кошмарыч на ухо Бамбулю, — в чём я людям больше всего завидую, так это в том, что они могут смеяться сколько захотят.
«Это тоже здорово, — подумал тогда Бамбуль, — но, конечно, самое лучшее в людской жизни — это подушки. Настоящие. Мягкие. Коснёшься щекой её гладкого бока, и сразу заснёшь сладко».
Нет, если б ему предложили выбрать, он бы без колебаний выбрал подушку. Тем более, в подземье от улыбок мало толку, тут темень такая, что не всегда и разберёшь, что за нечисть идёт тебе навстречу. А как пошипит, сплюнет — так и понятно.
Злыдневна, как обычно, ловила в тёмном коридорчике Муравьёв и стоножек. Черти их просто обожают, особенно крупных — самых сочных на вкус. А если их ещё посолить да запечь в золе до черноты, такая вкуснотища — пальчики оближешь.
Бамбуль учуял бабушку издали, она пахла чем-то сладеньким: глиной, тухлой болотной водой, кленовым корнем. А вот разглядеть её он едва мог — в этом коридорчике не было даже огнедыра и стояла кромешная тьма. Бамбуль пробирался вперёд ощупью, держась за стену, и как он ни собирал волю в кулак, а всё-таки через несколько метров шаги стали почему-то короче, сердце в груди отчаянно заколотилось, шерсть на спине встала дыбом, кожа на шее покрылась мурашками, и Бамбуль стал шарить вокруг себя руками, беспрерывно облизывая губы. И тут он услышал треск. Раздался толчок, и где-то глубоко под землёй раскололась каменная плита, и трещина побежала по стене вверх. На Бамбуля посыпались пыль и камни. Он сел на корточки и затаился не дыша. В этих мрачных, глубоких расщелинах водятся гоффлокки. Они ни на кого не нападают, но они такие огромные и столько весят, что если такая туша надумает идти за тобой по пятам, то, к несчастью, ни протиснуться мимо неё обратно, ни пропустить её вперёд не получится. Так она и будет гнать тебя перед собой всё глубже и глубже, пока не загонит туда, откуда не возвращаются.