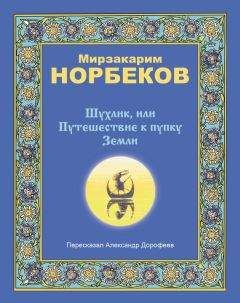И всё-таки любую, самую злокозненную привычку можно одолеть.
Вот теперь что-то растревожило Шухлика и звало, неизвестно куда и зачем. Кряхтя, он поднялся с пуховых подушек и вылез из золотого шатра. Постоял, огляделся. И первым из чувств воскресло удивление.
«Неужели мне и впрямь ещё чего-то нужно?! – размышлял Шухлик. – Да разве может такое случиться в саду Шифо?»
К счастью, в любом райском саду обязательно чего-нибудь не хватает. Ну, хотя бы тех же волнений, тревог и переживаний. Без них жизнь останавливается, и всё засыпает мёртвым сном.
Шухлик, отдуваясь и переваливаясь, как свиноматка, прошёлся по вечернему саду. Уже забыл, когда ходил так в последний раз.
Шелестели листья, перешёптываясь с травой. Журчал ручей, спеша рассказать какую-то новость пруду. Мерцали на небе первые звёзды, будто подмигивали уходящему солнцу. И такой между деревьев струился воздух, что хотелось его полизать.
Открыв рот, Шухлик неожиданно почувствовал, что ужасно хочет петь, – аж язык чешется!
«Вот чего мне не хватало, – понял он. – Славы певца!»
Не откладывая дело в долгий ящик, начал разучивать арии из опер и романсы, но получалось всё не слишком хорошо, как-то неудачно.
Когда Шухлик влезал на колесо обозрения и затягивал какую-нибудь серенаду, – йо-го-го-йо-ия-ия-ия! – сад Шифо тяжко вздыхал и грозился зачахнуть, а его обитатели прятались по норам и гнёздам.
– Дорогой мой, – говорила мама. – Среди ослов крайне редко встречаются умелые певцы. Пожалуй, я о таких и не слыхала. Может, только предок Луций умел петь как следует. У тебя, сынок, куча других достоинств. Ну зачем тебе пение?
– Что я могу поделать, – вздыхал Шухлик, – если душа вдруг запела…
– Но горло-то не приспособлено! – сердилась мама. – Когда совсем невтерпёж, уйди в укромный уголок, подальше, или спустись в метро и пой, сколько хочешь.
– Петь для себя – это глупо, – не соглашался Шухлик. – Нужны слушатели!
Однажды, на ночь глядя, он вспомнил мамины рассказы о превращениях Луция.
«Отчего бы не попробовать? Может, стану ненадолго певчей птицей! Хоть разок спою так, как хочется. Изолью все звуки, накопившиеся в душе!»
Колдовской мази, конечно, не было. Джинн Малай в отпуске.
Шухлик отправился прямиком к дереву желаний, на котором раскрылись огромные розовые цветы, мигавшие лепестками. Подождал минут пять и запел. Но голос совсем не улучшился. Может, мама-ослица утомила дерево своими запросами?
Тогда он нащипал полный рот лепестков и тщательно, как верблюд, пережевал. Слишком пахучие и щекотные! Поморщился и проглотил.
Ничего особенного не произошло. Просто какая-то сила внезапно подняла рыжего осла на вытянувшиеся задние ноги. Копыта вдруг разлапились, обращаясь в ступни и ладони. Надёжная толстая шкура утоньшилась и оголилась, а хвост вообще исчез. Стало лучше видно, зато хуже слышно, и нюх притупился.
Шухлик, покачиваясь, неуверенно шагнул на двух ногах и едва не упал с непривычки.
«Что такое?! – ужаснулся он. – На кого я похож?»
Добрёл на четвереньках до пруда и глянул в воду. Оттуда на него испугано взирал неизвестный молодой человек. Голова в сравнении с ослиной – круглая, маленькая, и нос торчит, как клюв, эдак отдельно от остального лица. Словом, глаза бы не видели!
Шухлик чувствовал себя настолько неуютно в новом обличье, что позабыл о пении. Спотыкаясь, побежал к маме.
Мелкий человечий язык плохо слушался. Коверкая слова, Шухлик промычал:
– Мва-мва, йэто ия-ия!
– Ну, вот! – ахнула она, всё же узнав сыночка по голосу. – Доигрался! Бедный мой, что же нам теперь делать?!
Мама, конечно, здорово растерялась. То начинала скакать вокруг Шухлика, то останавливалась, горестно прядая ушами.
Только что был её чудесный рыжий толстяк и вдруг – нате вам! – какой-то малознакомый парнишка.
На мамины вопли сбежались и слетелись все жители сада. Долго совещались, как быть, и порешили – утро вечера мудреней. Черепаха Тошбака так и сказала, а лис Тулки добавил:
– Утром проснёмся, а он – снова осёл. Вот попомните моё слово!
Но это сказать легко, а Шухлик даже не знал, как спать – стоя или лёжа? До земли теперь было очень далеко, и приходилось глядеть на всех сверху вниз.
Друзья-приятели старались держаться от него на расстоянии. К тому же он не понимал, о чём они говорят. Хорошо, что мама переводила.
Наступила ночь. Известно, что каждая ночь состоит из шести частей – сумерки, время светильников, время сна, глубокая ночь, когда вся жизнь замирает, крик петухов и заря.
Уже в первой её части все разошлись по норам и гнёздам, и сад притих. Такого с ним раньше не бывало. Он всегда что-то лепетал, нашёптывал, а теперь – молчок, ни гу-гу!
Затаился, словно предчувствуя недоброе. Деревья не светились, как прежде. Они будто бы перегорели. Глухая навалилась чернота.
Шухлик ощупывал пальцами новое тело, грустя о копытах, о тёплой шкуре, о длинных ушах и хвосте.
Он таращился по сторонам другими глазами, человеческими. И всё казалось ему чужим, странным и пугающим. Мало того, в него вселилось какое-то непостижимое волнение и возникло множество вопросов к самому себе.
«Такой ли я, каким хотел быть? – вздыхал Шухлик. – Кто я на самом деле? И ради чего живу?»
Эти вопросы раньше, возможно, где-то таились, прятались, а теперь объявились гурьбой в человеческой голове Шухлика и не давали покоя. Они жужжали, словно осиный рой, и трудно было разобрать, о чём именно. Голова кружилась на необычной высоте. Хотелось убежать из тихого, благополучного сада в неведомые дали.
С тоски он запел самый печальный романс из всех, известных ему: «Лишь на мир в молчанье тень и мгла падут, и своё сиянье звёзды разольют, с горькою истомой на душе моей я иду из дому на свиданье с ней. На свиданье это в тишине ночной смотрят до рассвета звёзды лишь с луной. И когда приду я, тихо к ней склонюсь, всё её бужу я, да не добужусь».
Он пел, не останавливаясь, вторую и третью части ночи. Но особенно дивные, глубочайшие звуки потекли из его горла, когда вся жизнь замерла. Увы, некому было послушать! Ни луны на небе, ни звёзд, среди которых можно было бы отыскать Ок-Таву.
Так жалобно пел он, чувствуя себя одиноким и покинутым, что набежали вскоре низкие облака, и пошёл мелкий, но, судя по всему, долгий дождь.
Перебили Шухлика нагловатые петухи. В саду Шифо петухов отродясь не бывало. Однако пение их раздавалось каждое утро. Эти, с позволения сказать, птицы настолько уверены в себе, что их крики живут отдельно от них по всему миру.
Всю пятую, петушиную части ночи Шухлик бродил по саду, как неприкаянный, меся грязь голыми ногами и дрожа всем телом.
Шарахался от игральных автоматов, урчащих и завывающих, будто свирепая стая хищников. Натыкался на одноруких бандитов и на карусели с толстыми деревянными ослами и ослицами, точными портретами Шухлика и мамы. Притаившиеся меж деревьев качели, не узнав его, со всего маху врезали по лбу.
В конце концов, уже под утро, на заре, когда ни с того ни с сего ударила молния в дерево желаний, озарив спавшую под ним золотую в бриллиантах черепаху Тошбаку, не удержался Шухлик на скользкой тропинке и плюхнулся в лужу.
Наверное, в саду Шифо и лужи были не простыми, а волшебными. А может, Ок-Тава, почуяв с небес страдания Шухлика, всё же помогла. Так или иначе, а поднялся он из лужи прежним рыжим ослом. Весь в грязи, но в общем-то довольный, что недолго мучался. Всего-то шесть частей ночи. Зато узнал, каково это быть человеком, и даже успел спеть.
«В любом человеке скрывается какая-нибудь ослиная морда», – решил для себя Шухлик.
Да, в мудрости он не уступал своему праотцу Луцию.
Это счастье, когда потомки не глупее предков.
Всё было бы прекрасно, однако возникшие той ночью вопросы продолжали тревожить Шухлика, и зарядивший дождь никак не прекращался.
Непонятно, то ли один бесконечный, то ли целый строй идущих друг за другом без промежутков. Или, скорее, даже не строй, а толпа дождей!
Они громоздились, толклись, напирали, будто очень торопились куда-то, и лили, словно из дыр бурдюков. Так что отказался шедший и проходящий ходить по дорогам из-за воды и грязи.
Все друзья Шухлика сидели, не высовываясь, по норам и гнёздам. Кошка Мушука спала день и ночь, как заколдованная принцесса.
Застигнутые непогодой сурок дядюшка Амаки и тушканчик Ука тоже дремали круглые сутки в норах, выкопанных наскоро под деревом желаний.
А мама-ослица начала чихать и кашлять. Видно, простыла.
В трудных случаях Шухлик советовался с садом Шифо. Но утомлённый дождями сад теперь не отвечал, угрюмо помалкивал, словно отворачивался. Лишь капли скучно шелестели в листве. Его молчание делалось нестерпимым.
Сад захлёбывался, утопал. Оглушённый ливнем он уже не расцветал по утрам и не плодоносил к вечеру. Казалось, деревья и кусты еле удерживаются корнями в размокшей земле.