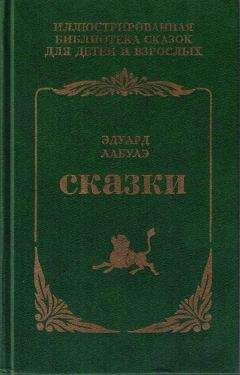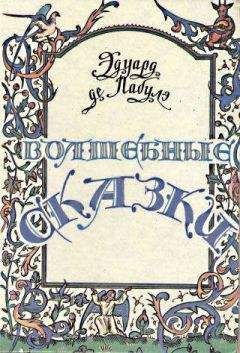— Волки поступают точно так же, — сказал Гиацинт.
— Твоя правда, сын мой, — сказал Арлекин, — и кабы люди воевали только с другими животными, я бы, может быть, имел слабость их извинить, Я бы подумал, что природа сотворила их плотоядными и что они не могут сопротивляться свирепости своего инстинкта. Но им этого мало, что они отнимают жизнь у нас; для полноты блаженства им ещё необходимо убивать друг друга. Волки не едят волков, но для человека величайшее удовольствие напасть врасплох на своего ближнего и зарезать его. Четыреста тысяч Ротозеев, цвет юношества, упражняются каждое утро в искусстве истреблять соседей и друзей, Остолопов; шестьсот тысяч Остолопов, надежда будущего, проводят прекраснейшие годы своей жизни, с трудом изучая удобнейшие средства отправлять на тот свет всех своих друзей и соседей, Ротозеев. Земля — сад, предлагающий свои плоды, люди превратили её в бойню. Где они проходят, там остаётся кровавый след. Если бы ещё победитель съедал того, кого он режет, я бы понимал его жестокость; охотник живёт своею дичью. Да не тут-то было!
Они режутся без надобности, из удовольствия, чтобы надышаться ароматом бойни. Чуть произошла драка между двумя армиями, начальники уже протягивают друг другу руки, прежде чем успеют похоронить трупы. С обеих сторон обмениваются поздравлениями, обнимаются, звонят в колокола, стреляют из пушек, все радуются и ликуют и забывают только мертвецов да тех, кто над ними остался плакать.
— Но, — сказал Гиацинт, — если люди так злы, народ к народу, то каким же образом они могут жить в одной стране, не убивая друг друга?
— Я знаю только Ротозеев, — ответил Арлекин, — и тут не трудно увидать, какими средствами между ними поддерживают мир. Тут две отдельные расы, победители и побеждённые, завоеватели и рабы.
— Кто тебе это сказал? — спросил Гиацинт.
— Собственными глазами видел. Ты разве не заметил, что у Ротозеев одни носят рогатые шляпы, а другие круглые. У первых шпага на боку, мундир и ордена; у вторых фраки, сюртуки или пальто; первые держат голову высоко, говорят громко, приказывают — это господа; другие опускают голову, говорят тихо и повинуются — это рабы. Побеждённые работают для всех, а победители поддерживают порядок.
Гиацинт посмотрел на товарища; такое невежество изумило его, даже со стороны собаки; он счёл удобным вступить в борьбу с ложными идеями Арлекина.
— Любезный товарищ, — сказал он, — тут, мне кажется, нет ни побеждённых, ни победителей, ни рабов, ни завоевателей. Люди, как я слыхал, повинуются особому правилу, тому, что они называют законом, и во всякой стране есть чиновники, чтобы поддерживать господство этого закона.
— Коли это правда, дитя моё, значит, люди ещё более злы, чем я думал. Как! Половине нации надо постоянно носить оружие, чтобы другая половина вела себя честно? Разве у нас, у собак, есть чиновники, рогатые шляпы, шпаги? И однако же мы живём мирно; величайшие наши ссоры кончаются тем, что только покусаемся. Так точно поступают быки, бараны, даже волки и лисицы. Из всех животных только одного человека надо водить в наморднике и бить, чтобы он не съел своего же брата. О, поганое племя, рождённое на погибель миру, проклинаю тебя!
— Знаешь, — сказал Гиацинт, — слушая тебя, я начинаю ненавидеть род человеческий.
— Коли ты так думаешь, бедное дитя, ты не знаешь твоей слабости. Тобою овладеет первая женщина, которая тебя приласкает, первый мужчина, который тебе польстит. Ты так же точно поддашься на обман, как поддался я. Наш брат, бедная собака, родится на свет с потребностью любить, которая нас губит. Житейский опыт вырывает у нас нашу последнюю надежду только тогда, когда нашему сердцу нанесены десятки кровавых ран, и тогда…
— Что же тогда? — спросил Гиацинт. — Тогда надо молчать, забиться в угол и околеть.
С этими словами старый Арлекин положил морду на вытянутые лапы и замолчал.
Гиацинт печально посмотрел на луну, поднимавшуюся на горизонте, но он не долго предавался своим мрачным размышлениям; его утомлённые глаза закрылись, и свернувшись в клубок, он захрапел рядом с товарищем.
На другой день, проснувшись довольно поздно, Гиацинт видит в окне одной лачужки красивое лицо молодой девушки. Скворец в клетке за окном называет эту девушку Жирофле, и Гиацинт догадывается, что видит перед собою возлюбленную молодого солдата Нарцисса. Жирофле видит пуделя; он ей нравится, и она приманивает его к себе, вводит его к себе в комнату, начинает его ласкать и разговаривает о Нарциссе.
Приходит её отец, кузнец Лапуэнт, и начинает жаловаться на дороговизну, на тяжёлые времена и на распоряжения правительства, которое забирает в солдаты молодых работников и потом берёт у граждан деньги, чтобы кормить эту молодёжь, оторванную от работы. Старый Лапуэнт особенно досадует на то, что у него отняли Нарцисса, его ученика и помощника.
Гиацинта кузнец пристраивает к работе: он заставляет его, как белку, бегать в колесе и приводить таким образом раздувательные мехи. Гиацинт, работая до изнеможения, припоминает слова Арлекина и начинает раскаиваться в том, что поддался ласкам молодой красавицы.
Вечером, за ужином, старик заговаривает с дочерью о том, что служитель дворцового сада, г. Лелу, просит её руки и обещает доставить своему будущему тестю выгодное место.
Жирофле говорит, что никогда не примет предложения г. Лелу. Старик сжимает кулаки, подходит к дочери, но не осмеливается её тронуть и вымещает свою досаду на пуделе, попавшемся ему на глаза.
В это время Нарцисс приходит проститься с Жирофле. Прощание в присутствии раздражённого отца выходит натянутое и печальное.
После ухода Нарцисса Гиацинта опять на несколько часов сажают в колесо. Потом Гиацинт засыпает, видит во сне все разнообразные сцены, пережитые им в течение последних дней, и просыпается, к величайшему своему удовольствию, у себя во дворце, на постели, под шёлковым балдахином. Королева-мать сидит у его изголовья.
XII. О политическом влиянии собак у Ротозеев
— О, маменька, — вскрикнул Гиацинт, — какой я сон видел!
— Молчи, дитя моё, — сказала королева. — Не говори об этом, тут идёт дело о твоей жизни и моей. Могу тебе сказать только то, что я одна входила в твою комнату, и что если тут есть какая-нибудь тайна, то она останется между нами. Народ узнает только то, что ему скажем. Вот Официальная истина. Она известила, что эти два дня ты был болен.
— Маменька, — сказал Гиацинт, пробежав высокопарное известие газеты, — неужели вы это написали?
— Сын мой, кавалер Пиборнь, наш главный редактор, узнав о твоей болезни, напечатал эти строки в Официальной истине.
— Да ведь это ложь!
— Мой сын! — сказала королева, улыбаясь, — Не употребляй никогда этого дурного слова, В политике нет ни лжи, ни истины; всё условно, как в комедии. Ротозеи не требуют, чтобы им говорили правду; они её боятся; они хотят, чтобы их тешили. Им подают блюда по их вкусу. Эта маленькая статейка приведёт их в восторг; вреда она никому не сделает. Что может быть невиннее?
— Маменька, — печально проговорил Гиацинт, — вы меня учили, что надо всегда говорить правду.
— Конечно, сын мой. Ложь недостойна благородного человека, а короля тем более. Правду надо говорить ближнему, но народу — дело другое. Народ — дитя. Надо прикрашивать истину для его же пользы, чтобы он был спокоен и слушался.
— Стало быть, существуют две нравственности?
— Спроси у министров, милое моё дитя. Теперь время заседания, и они уже два дня ждут тебя. А я знаю только одно — я тебя люблю и обнимаю. Прощай, философ мой прекрасный!
Поднявшись на ноги, Гиацинт взял хлыст и прямо пошёл в ту комнату, где жили его собаки. Увидев его, вся стая пришла в волнение; поднялся визг, лай; начались всевозможные нежности. Гиацинта особенно изумило то, что воротившись к человеческому образу, он ещё понимал язык собак. Любопытство обезоружило его, и вместо того, чтобы отпороть хлыстом неблагодарный народ, изменивший ему в тяжёлую минуту, он прислушивался к его толкам и возгласам.
— Это хозяин, — говорила болонка, осыпая его ласками.
— Может быть, у него лежит сахар в кармане, — шептала особенно нежная левретка.
— У него хлыст, — лаял борзой кобель, лизавший ему руку.
Гиацинт ударом хлыста разделался с этою раболепною толпою и вошёл в залу совета.
Туш-а-Ту, Плёрар и Пиборнь тотчас встали; они бросились к Гиацинту с такою поспешностью, наговорили ему столько приветствий, стали хватать его за руки с таким жаром, что Гиацинт невольно припомнил своих собак; но он подавил в себе эту неприличную мысль и самым ласковым образом поблагодарил министров за их заботливость о его здоровье.
Когда открылось заседание, граф Туш-а-Ту представил к подписи пятьсот назначений, накопившихся за два дня. Гиацинт начинал понимать своё ремесло. Он взял перо и стал подписывать не читая.