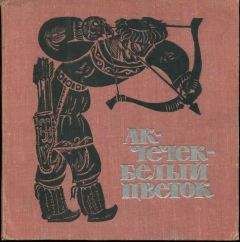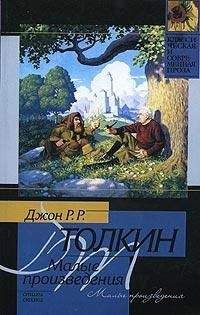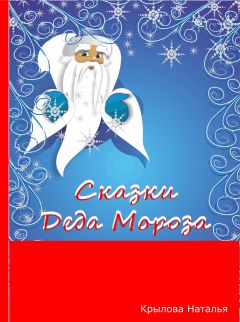«Пойду медведю покажусь».
Пришел и говорит:
— Кланяюсь вам до земли, дедушка-медведь. Защиты у вас прошу. Сам я этой ночью дома не был, гостей не звал. Громкий храп услыхав, испугался… Скольких зверей обеспокоил, свой дом порушил. Теперь посмотрите, от заячьего белого живота, от заячьих лап — лоб и щеки мои побелели. А виноватый без оглядки убежал. Это дело рассудите.
Взглянул медведь на барсука. Отошел подальше — еще раз посмотрел, да как зарычит:
— Ты еще жалуешься? Твоя голова раньше черная была, как земле, а теперь белизне твоего лба и щек даже люди позавидуют. Обидно, что не я на том месте стоял, что не мое лицо заяц выбелил. Вот это жаль! Да, жалко, обидно…
И горько вздохнув, замолчал медведь.
А барсук так и живет с белой полосой на лбу и на щеках. Говорят, что он привык к этим отметинам и даже похваляется:
— Вот как заяц для меня постарался! Мы теперь с ним друзья на веки вечные.
Ну, а что заяц говорит? Этого никто не слыхал.
Роняет береза золотистую листву, золотые иглы теряет лиственница. Дуют злые ветры, падают холодные дожди. Лето ушло, осень пришла. Птицам время в теплые края лететь.
Семь дней на опушке леса в стаи собирались, семь дней друг с другом перекликались:
— Все ли тут? Тут ли все? Все иль нет?
Только глухаря не слышно, глухаря не видно.
Стукнул беркут своим горбатым клювом по сухой ветке, стукнул еще раз и приказал молодой кукушке позвать глухаря.
Свистя крыльями, полетела кукушка в лесную чащобу.
Глухарь, оказывается, здесь — на кедре сидит, орешки из шишек лущит.
— Уважаемый глухарь, — сказала кукушка, — птицы в теплые края собрались. Уже семь суток вас дожидаются.
— Ну-ну, всполошились! — проскрипел глухарь. — В теплые земли лететь не к спеху. Сколько здесь в лесу орехов, ягод… Неужто это все мышам и белкам оставить?
Вернулась кукушка:
— Глухарь орехи щелкает, лететь на юг, говорит он, не к спеху.
Послал тогда беркут проворную трясогузку.
Прилетела она к кедру, вокруг ствола десять раз обежала:
— Скорее, глухарь, скорее!
— Уж очень ты скорая. Перед дальней дорогой надо маленько подкрепиться.
Трясогузка хвостиком потрясла, побегала-побегала вокруг кедра, да и улетела.
— Великий беркут, глухарь перед дальней дорогой хочет подкрепиться, сил набрать.
Разгневался беркут и повелел всем птицам немедля в теплые края лететь.
А глухарь еще семь дней орехи из шишек выбирал, на восьмой вздохнул, клюв о перья почистил.
— Ох, не хватает у меня сил все это съесть. Жалко такое добро покидать, а приходится…
И, тяжело хлопая крыльями, полетел на лесную опушку. Но птиц здесь уже не видно, голосов их не слышно.
«Что такое?» — глазам своим глухарь не верит: опустела поляна, даже вечнозеленые кедры оголились. Это птицы, когда глухаря ждали, всю хвою склевали; земля вокруг кедров от птичьего помета побелела.
Горько заплакал, заскрипел глухарь:
— Без меня, без меня птицы в теплые края улетели… Как теперь буду я здесь зимова-а-ать?
От слез покраснели у глухаря его темные брови. С той поры и до наших дней дети, и внуки, и правнуки глухаря, эту историю вспоминая, горько плачут. И у всех глухарей брови, как рябина, красные.
Зимней ночью вышел горностай на охоту. Он под снег нырнул, вынырнул, на задние лапы встал, шею вытянул, прислушался, головой повертел, принюхался…
И вдруг словно гора свалилась ему на спину. А горностай хоть ростом мал, да отважен — обернулся, зубами вцепился — не мешай охоте!
— А-а-а-а! — раздался крик, плач, стон, и с горностаевой спины свалился заяц.
Задняя нога у зайца до кости прокушена, черная кровь на белый снег течет.
Плачет заяц, рыдает:
— О-о-о-о! Я от совы бежал, свою жизнь спасти хотел, я нечаянно тебе на спину свалился, а ты меня укуси-и-и-ил…
— Ой, заяц, простите, я тоже нечаянно…
— Слушать не хочу, а-а-а! Никогда не прощу, а-а-а-а! Пойду на тебя медведю пожалуюсь! О-о-о-о!
Еще солнце не взошло, а горностай уже получил от медведя строгий указ:
«В мой аил на суд сейчас же явитесь! Старейшина здешнего леса Темно-бурый медведь».
Круглое сердце горностаево стукнуло, тонкие косточки со страху гнутся… Ох, и рад бы горностай не идти, да медведя ослушаться никак нельзя…
Робко-робко вошел он в медвежье жилище.
Медведь на почетном месте сидит, трубку курит, а рядом с хозяином, по правую сторону, — заяц. Он на костыль опирается, хромую ногу вперед выставил.
Медведь пушистые ресницы поднял и красно-желтыми глазами на горностая смотрит:
— Ты как смеешь кусаться?
Горностай, будто немой, только губами шевелит, сердце в груди совсем не помещается.
— Я… я… охотился, — чуть слышно шепчет.
— На кого охотился?
— Хотел мышь поймать, ночную птицу подстеречь.
— Да, мыши и птицы — твоя пища. А зайца зачем укусил?
— Заяц первый меня обидел, он мне на спину свалился…
Обернулся медведь к зайцу, да как рявкнет:
— Ты для чего это горностаю на спину прыгнул?
Задрожал заяц, слезы из глаз водопадом хлещут:
— Кланяюсь вам до земли, великий медведь. У горностая зимой спина, как снег, белая… Я его со спины не узнал… ошибся…
— Я тоже ошибся, — крикнул горностай, — заяц зимой тоже весь белый!
Долго молчал мудрый медведь. Перед ним жарко трещал большой костер, над огнем на чугунных цепях висел золотой котел с семью бронзовыми ушками. Этот свой любимый котел медведь никогда не чистил, боялся, что вместе с грязью счастье уйдет, и золотой котел был всегда ста слоями сажи, как бархатом, покрыт.
Протянул медведь к котлу правую лапу, чуть дотронулся, а лапа уже черным-черна. Этой лапой медведь зайца слегка за уши потрепал, и вычернились у зайца кончики ушей!
— Ну вот, теперь ты, горностай, всегда узнаешь зайца по ушам.
Горностай, радуясь, что дело так счастливо обошлось, кинулся бежать, да медведь его за хвост поймал. Вычернился у горностая хвост!
— Теперь ты, заяц, всегда узнаешь горностая по хвосту.
Говорят, что с той поры и до наших дней горностай и заяц друг на друга не жалуются.
В стародавние времена жила на Алтае чудо-зверь Мааны. Была она, как кедр вековой, большая. По горам ходила, в долины спускалась — нигде похожего на себя зверя не нашла. И уже начала понемногу стареть:
«Я умру, — думала Мааны, — и никто на Алтае меня не вспомянет, забудут все, что жила на земле большая Мааны. Хоть бы родился у меня кто-нибудь…»
Мало ли, много ли времени прошло, и родился у Мааны сын — котенок.
— Расти, расти, малыш! — запела Мааны. — Расти, расти.
А котенок в ответ:
— Мрр-мрр, ррасту, ррасту…
И хоть петь-мурлыкать научился, но вырос он мало, так и остался мелким.
Вторым родился барсук. Этот вырос крупнее кота, но далеко ему было до большой Мааны, и характером был он не в мать. Всегда угрюмый, он днем из дома не выходил, ночью по лесу тяжело ступал, головы не поднимая, звезд, луны не видя.
Третья — росомаха — любила висеть на ветках деревьев. Однажды сорвалась с ветки, упала на лапы, и лапы у нее скривились.
Четвертая — рысь — была хороша собой, но так пуглива, что даже на мать поднимала чуткие уши. А на кончиках ушей у нее торчали нарядные кисточки.
Пятым родился ирбис-барс. Этот был светлоглаз и отважен. Охотился он высоко в горах, с камня на камень легко, будто птица, перелетал.
Шестой — тигр — плавал не хуже Мааны, бегал быстрее барса и рыси. Подстерегая добычу, был нетороплив — мог от восхода солнца до заката лежать притаясь.
Седьмой — лев — смотрел гордо, ходил высоко подняв свою большую голову. От его голоса содрогались деревья и рушились скалы.
Был он самый могучий из семерых, но и этого сына Мааны-мать играючи на траву валила, забавляясь, к облакам подкидывала.
— Ни один на меня не похож, — дивилась большая Мааны, — а все же это мои дети. Когда умру, будет кому обо мне поплакать, пока жива — есть кому меня пожалеть.
Ласково на всех семерых поглядев, Мааны сказала:
— Я хочу есть.
Старший сын — кот, мурлыча песенку, головой о ноги матери потерся и мелкими шагами побежал на добычу. Три дня пропадал. На четвертый принес в зубах малую пташку.
— Этого мне и на один глоток не хватит, — улыбнулась Мааны, — ты сам, дитя, подкрепись немного.
Кот еще три дня птахой забавлялся, лишь на четвертый о еде вспомнил.
— Слушай, сынок, — сказала Мааны, — с твоими повадками трудно будет тебе жить в диком лесу. Ступай к человеку.