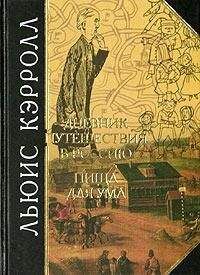— Я — Мама, а Сильвия — Старшая Няня, — пояснила Бесси. — Сильвия разучивает со мной премиленькую песенку, чтобы я могла петь ее Матильде Джейн!
— А можно и нам послушать, Сильвия? — спросил я, радуясь неожиданной возможности услышать, как она поет. Но Сильвия смутилась и стала отнекиваться:
— Нет, в другой раз! — заговорила она, поглядев на меня. — Бесси теперь тоже знает песенку, вот пусть она и споет!
— Вот и прекрасно! Пусть споет Бесси! — подхватила гордая мать. — У малышки такой прелестный госолок (сказала она, обращаясь ко мне); впрочем, не будем перехваливать ее!
Но Бесси ужасно нравилось, когда ее перехваливают. Она, то бишь Мама, уселась у наших ног, положила «дочку» себе на колени (дочка упорно не желала сидеть, сколько ее ни уговаривай) и, вся так и сияя от удовольствия, принялась баюкать и качать свое чадо, боясь разбудить его. Старшая Няня заботливо склонилась над ней; вся ее поза выражала почтительность. Обняв за плечи свою маленькую хозяйку, она, как хороший суфлер, была готова прийти ей на выручку и заполнить «малейшую щель в зияющих провалах памяти».
Для начала девочки пронзительно завизжали, изображая детский плач. Но буквально через минуту Бесси успокоилась и запела слабым, но ласковым голоском. Поначалу взгляд ее черных глаз был устремлен на мать, но затем она стала посматривать по сторонам и, кажется, совсем забыла о том, что ее единственным слушателем должна быть ее «дочка», так что Старшей Няне пришлось пару раз шепотом поправить Бесси, когда та капельку запиналась и забывала мотив.
Матильда Джейн, что ж ты опять
Не хочешь книжку полистать?
Ее забавней нет, ей-ей!
Ты что, слепа, Матильда Джейн?
Тебе я песенки пою
И расскажу про жизнь свою,
А ты, сжав губки поплотней,
Молчишь, как пень, Матильда Джейн!
Я говорю с тобой, мой свет,
А ты ни слова мне в ответ.
Напрасен пыл моих речей…
Ты что, глуха, Матильда Джейн?!
А впрочем, это чепуха,
Что ты слепа, что ты глуха:
Есть та, кому ты всех милей —
Знай, это — я, Матильда Джейн!
Три первых куплета она спела просто замечательно, а последний, как видно, взволновал малышку. Ее голосок звучал все громче и громче, личико так и пылало от волнения, а спев последние слова, она горячо прижала к сердечку невнимательную Матильду Джейн.
— Ну, поцелуй же ее! — подсказала Старшая Няня. И малышка тотчас принялась осыпать поцелуями глупенькое и безучастное лицо куклы.
— Какая милая песенка! — воскликнула фермерша. — А чьи это стихи, дорогая?
— Я… я не знаю… пойду присмотрю за Бруно, — пробормотала Сильвия, поспешно вставая. Странная девочка! Она явно избегала похвал и не хотела, чтобы на нее обращали внимание.
— Стихи придумала Сильвия, — сообщила Бесси, гордясь тем, что знает то, чего не знаем мы, — мелодию сочинил Бруно, а спела я! (Впрочем, о последнем мы и сами догадались.)
Мы последовали за Сильвией и вернулись в гостиную. Бруно стоял у окна, облокотившись о подоконник. Он, видимо, уже рассказал сказку непоседливой мухе и нашел себе другое занятие.
— Не меш-ш-шайте! — проговорил он, когда мы вошли. — Я считаю поросят в поле.
— И сколько же их там? — поинтересовался я.
— Около тысячи и еще четыре, — отвечал Бруно.
— Ты хочешь сказать «около тысячи», — поправила его Сильвия. — «Четыре» добавлять незачем: ты ведь не знаешь, сколько именно «около тысячи».
— А вот и нет, а вот и нет! — с торжеством воскликнул Бруно. — Насчет четырех я как раз уверен: ровно столько их роется под окнами! А вот насчет тысячи дело хуже…
— Но ведь некоторые уже ушли в свинарник, — заметила Сильвия, выглядывая из окна.
— Да, верно, — согласился Бруно, — но они шли так лениво и медленно, что я решил не считать их.
— Ну, дети, нам пора уходить, — проговорил я. — Попрощайтесь с Бесси. — Сильвия обняла маленькую «маму» и расцеловала ее, а Бруно не двинулся с места и застеснялся. («Я не целуюсь ни с кем, кроме Сильвии!» — пояснил он потом.) Фермерша проводила нас, и мы скоро зашагали обратно в Эльфстон.
— А это, надо полагать, та самая новая пивная, о которой говорила хозяйка, — заметил я, увидев длинное приземистое здание, над дверью которого красовалась вывеска «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ».
— Да, она самая, — отозвалась Сильвия. — Интересно, ее Вилли здесь, а? Ну-ка, Бруно, сбегай погляди.
Я остановил малыша, чувствуя себя ответственным за него.
— В такие места детей посылать не принято.
Дело в том, что как раз в этот момент завсегдатаи пивной подняли шум; из раскрытых окон послышалось пение, крики и пьяный смех.
— Да они не увидят его, вы же знаете, — пояснила Сильвия. — Бруно, подожди минутку! — Она опять сняла медальон, который всегда носила на шее, зажала его в руке и принялась что-то нашептывать. Что именно — разобрать я не мог, но с нами тотчас совершилось таинственное превращение. Мои ноги перестали ощущать тяжесть тела, и у меня возникло странное, феерическое чувство, что я попросту парю в воздухе. Правда, я еще видел детей, но их фигурки стали неясными и расплывчатыми, а голоса звучали как-то неестественно, словно доносились откуда-то издалека, из другого времени. Теперь я не стал удерживать Бруно, и он отправился в пивную. Через несколько минут он вернулся.
— Нет, его пока что нет, — сообщил малыш. — Он разговаривает с кем-то на улице, рассказывая, как здорово он напился на прошлой неделе.
Пока мы разговаривали, из двери вразвалочку вышел один из посетителей. В одной руке он держал трубку, в другой — кружку с пивом, и направился прямо к нам, словно собираясь поглядеть, что делается на улице. Трое раскрасневшихся и полупьяных приятелей, каждый из которых держал в руке по кружке с пивом, наблюдали за ним, высунувшись из окна.
— Ну как, не видно его? — спросил один из них.
— Никак не пойму, — отвечал гуляка, пошатываясь и вплотную подходя к нам. Сильвия поспешно потянула меня в сторону.
— Спасибо, милая, — проговорил я. — Я и забыл, что он нас не видит. А что было бы, если бы я остался на месте, а?
— Сама не знаю, — честно призналась девочка. — С нами с Бруно ничего бы не случилось, но вы — совсем другое дело. — Она сказала это своим обычным голосом, но гуляка ничего не заметил, хотя она стояла буквально в полушаге от него и смотрела прямо ему в лицо.
— Идет! Идет! — крикнул Бруно, указывая на дорогу.
— Идет! Наконец-то! — как эхо, подхватил гуляка. Едва не задев Бруно по голове, он протянул руку и трубкой указал на приближающегося приятеля.
— А ну-ка, хором! — крикнул из окна один из краснолицых выпивох, и в ответ добрая — точнее, пьяно-недобрая — дюжина голосов подхватила нестройным хором буйный припев:
Мы ревем, как медведь,
Мы — гуляки!
Мы ужасно любим петь,
Баловаться и шуметь;
Мы — гуляки,
Забияки!
Гуляка, пошатываясь, опять побрел в пивную, подтягивая залихватскую песню. И когда Вилли наконец подошел к дверям, на улице оставались только мы с детьми.
Он направился было к дверям, но дети опередили его. Сильвия взяла его за руку, а Бруно что было силы толкнул его в противоположную сторону и завопил: «Пшел прочь! Пади! Прочь отсюда!» (этому он, видимо, научился у извозчиков).
Вилли не обратил на них никакого внимания; он просто почувствовал странный толчок, и не более того. Однако он принял это за знак свыше и счел за благо пройти мимо.
— Нет, не пойду, и все, — пробурчал он. — Только не сегодня.
— Ну, кружечка пивка тебе не повредит! — заорали его друзья из окна. — И две не повредят! И дюжина тоже!
— Не-эт уж, — отвечал Вилли. — Я спешу, да и не хочу.
— Как? Ты — и вдруг не выпьешь, старина Вилли? — закричала вся пьяная компания. Но «старина Вилли» не пожелал вступать в спор и поспешно зашагал прочь. Дети следовали за ним, чтобы удержать, если он вдруг передумает.
Некоторое время он шел довольно быстрым шагом, засунув руки в карманы и насвистывая какую-то песенку. Его победа над собой была почти полной, но внимательный наблюдатель наверняка заметил бы, что его что-то мучило; допев один мотив, он поспешно принимался за другой, словно боясь тишины.
Нет, это был не старинный страх, вдруг овладевший им — страх, ставший его мрачным спутником каждую субботнюю ночь, когда он кое-как доползал до ворот сада и слышал крики и попреки жены, пробуждавшие в его усталой голове отзвук куда более грозного и неумолимого голоса — безразличия и безволия… О, это был совсем другой, новый страх: жизнь вдруг предстала ему в совершенно ином, ослепительном и непонятном, свете, и он никак не мог понять, как теперь пойдут их домашние дела, как к нему будут относиться жена и дочка… И эта неопределенность рождала в его душе пугающее чувство.