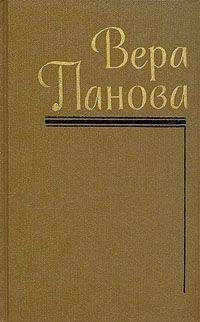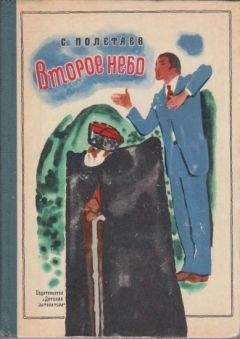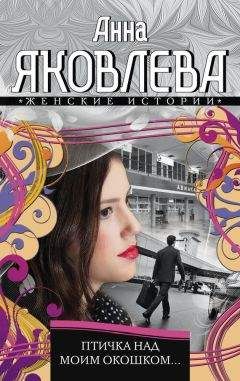— Сейчас…
— Сейчас ударит…
— Ударит четверть двенадцатого…
— Подумайте! Когда полагалось бы ударить уже без четверти час!
Кто-то сказал скорбно и торжественно:
— Почем вы знаете, что полагается? Может быть, именно полагается, чтобы сейчас было четверть двенадцатого, а не без четверти час? Почем вы знаете?
— Но по солнцу…
— Что мы знаем о солнце? Сегодня нам говорят о нем одно, завтра другое. Нам кто-нибудь сказал окончательно и бесповоротно, что такое Вселенная, как она произошла, каковы ее свойства? Одними гипотезами пичкают. Так как же вы беретесь судить о солнце, о времени и тому подобном? Может, время именно должно идти против солнца?
— Не говорите глупости! — крикнул астроном. — Невежда!
На астронома набросилась гражданка Цеде. Она была тут как тут, забыв, как видно, об опасности, угрожавшей ей от беглых сумасшедших, забывчивость, понятная при данных обстоятельствах.
— Это кто на нас кричит? Вы кто такой? Иностранец, судя по акценту? Иностранец обвиняет нас в глупости, хорошенькое дело! Иностранец будет судить, невежды мы или ученые! Сам дурак!
Толпа становилась все плотней. Из улиц лились и лились людские потоки.
Белая Роза потянула свою руку из руки Анса.
— Куда ты? — спросил он.
— Я ведь еще ничего не решила, — с запрокинутой головой ответила она, не отрывая глаз от синего циферблата.
— Но разве ты не сказала «да»? — спросил он в изумлении. — Я понял так, что ты говоришь «да».
— Вам показалось. — Она освободила руку. — Это дело серьезное. Не мешает в самом деле подумать, кому какая цена, прежде чем вить гнездо.
Часы пробили четверть двенадцатого.
Безудержное веселье овладело зрителями. Из молчания поднялся хохот. Гомерический, роковой! Хохотала площадь, хохотали окрестные улицы. Хохотали те, кто высовывался из окон под карнизами с голубями, и, вздувая нежное горло, до слез смеялась Белая Роза.
И многие, хохоча, со стонами утирали слезы.
А кто не поддался зловещей вспышке, те озирались на весельчаков со страхом и заботой.
Протирая очки, на балкон ратуши вышел Дубль Ве. Его седая голова в сиянии дня вспыхнула серебром.
— Друзья мои! — разнесся над городом полный дружелюбия голос, каждому известный, как голос родного отца, — не следует волноваться. Произошло, очевидно, повреждение, оно будет исправлено. Исправлено безотлагательно, поскольку в часовой башне находится наш глубокоуважаемый мастер Григсгаген, уж он-то не допустит, чтобы наши часы безобразничали, живо их приберет к рукам.
И мастер Григсгаген тоже вышел на балкон и стал возле Дубль Ве.
Народ притих и ждал его слова с почтением и интересом.
Кто-то звонко сказал:
— Ой, какой старый!
— Мама, — заплакал мальчик, — я боюсь!
— Они не пойдут вперед, — сказал мастер.
— То есть? — спросил Дубль Ве.
— Будут идти назад.
— Это как же?
— Вот так, назад. Всегда.
— Нет, — сказал Дубль Ве. — Нас это не устраивает.
— Всегда! — громогласно повторил мастер.
— Один вопрос, мастер! — закричал снизу Элем. — Как вы считаете, из этого что-нибудь может получиться?
Мастер обвел землю и небо торжествующим взглядом.
— Еще бы! — сказал он. — Отныне цветы будут цвести дважды, и старые молодеть, и жизнь одерживать победы в схватках со смертью. Не бойтесь, люди, не плачьте, не смейтесь — вот увидите, что будет! И это сделал я, ученик Себастиана!
День совершал свой путь. На лучах-крыльях плыл он от полудня к закату. Ему не было дела, кто и что тут натворил в человеческом муравейнике.
Мастер Григсгаген прощается с тенями
И все отстранились от него как от колдуна, чернокнижника, когда он шел через площадь иссохший и темноликий, постукивая тростью, и с ним его пес.
Никто, кроме пса, за ним не двинулся, он шел без всякой докуки, и громко стучала трость в пустых улицах — пустых потому, что все были на площади.
Ветерок подувал в лицо. Сирень перевешивала через заборы литые лиловые гроздья.
— Благословенный день! — сказал мастер.
Он стоял перед высокими решетчатыми воротами. Сквозь решетку белели кресты и обелиски.
— Ха-ха! — развязно произнес мастер и пошел по чисто подметенной аллее.
Кресты и обелиски мерцали золотыми и черными надписями. Крашеные железные венки висели на крестах, они нагрелись на солнце, и от них пахло краской.
— То-то! — сказал мастер. — Не выйдет! Вот хотел было привыкать, а теперь пришел проститься надолго, вот вам!
Он задержался возле громоздкой плиты, на которой было написано по-латыни: «Себастианус».
— Хорош! — сказал он. — Почему ты этого не сделал для себя? Дрогнула рука перед опытом? Владея таким знанием, дал кондрашке тебя хватить, эх ты! А вот я твоим знанием воспользовался, ага!
Он постоял, будто ожидая отклика. Но недосягаемо равнодушие мертвых. Укоры и смешки им трын-трава.
— А те-то! Старшенькие ученички! Любимчики твои! У которых я был на побегушках! Тоже ведь не дерзнул ни один. Перемерли, сложили лапки. Только я дерзнул, состоявший у них на побегушках. И ничего из твоего последнего урока не забыл — какова память!
Молчала плита с мерцающими латинскими буквами.
Мастер устыдился своего бахвальства.
— Ну, спасибо тебе за науку! — сказал он и, поклонясь, отправился дальше.
И вот перед ним был памятник — печальный ангел стоял, приподняв босую ногу, на белом саркофаге. Трещина змеилась по саркофагу. Старый памятник, старая могила.
— Предполагалось, что вскоре придется свидеться, — сказал мастер ангелу, — к этому шло. Но обстоятельства складываются иначе. Ты, конечно, поймешь и не рассердишься. Ты всегда все понимала и никогда не сердилась. Я вижу тебя как живую. Твою нежность вижу и твое терпение. Моя дорогая.
Он закрыл глаза.
— Нет. Я не лгу. Я все забыл. Так бесконечно давно это было. Ты стала мраморным ангелом, я не твое лицо вижу — чужое лицо ангела. И в душе нет печали, душа моя дрожит от предвкушений, хочет жить. Прости еще раз. До нескорого свиданья.
И зашагал, вскидывая трость. И ходил до вечера, останавливаясь и говоря с поклоном: «До нескорого свиданья», — у него на этом кладбище много было могил.
Часы привыкли идти назад.
Бодро движется вспять минутная стрелка.
Легонько, будто танцуя, перебирает секундная частые золотые черточки в обратном порядке.
С полной готовностью лезет часовая от шести к пяти, от четырех к трем.
Странный вид на улицах: никто никуда не спешит, плетутся, словно и дел ни у кого нет.
Афиши на тумбах извещают о прошлогодних спектаклях.
На школе висит объявление, что отныне ученики будут учиться по прошлогодним учебникам, не только второгодники, но и вообще все.
Недавно, помнится, кто-то волновался насчет какой-то аварии с гладиолусами. А сейчас цветы вовсе исчезли. Чьи-то руки все оборвали, чьи-то ноги все вытоптали. А что осталось — засохло без поливки.
Ворота Главного цветоводства распахнуты, скрипят на петлях, там внутри голая земля, битые стекла оранжерей, мерзость запустения.
В пивной напротив ратуши сидят мужчины, пьют и поют, притоптывая в такт:
Эники-беники ели вареники!
Эники-беники клец!
— Эй, хозяйка! — кричит один. — Еще по кружке!
Хозяйка приносит еще по кружке.
— Вчера, — говорит другой, — они меня заставили обедать глубокой ночью.
— Это что, — говорит третий, — меня они так запутали, что я все в ретортах передержал и перепортил.
— Это что, — говорит четвертый, — вот диспетчер запутался — да два поезда под откос, это похлестче.
— Это что, — говорит первый, — штука в том, что ни у тебя, ни у тебя, ни у тебя, ни у меня нет завтра, куда-то оно девалось.
— Хозяйка! — кричит второй. — Еще по кружке!
— Друзья! — говорит Дубль Ве, входя. — Как вам не стыдно! Совесть у вас есть? Почему вы не работаете? Почему пьянствуете?
— А зачем нам идти на работу, — спрашивают у него, — и почему нам не пьянствовать, когда у нас нет завтра? Когда у нас одно бесконечное вчера и впереди и сзади!
— Это не оправдание! — говорит Дубль Ве. — Это временно, мы это отрегулируем. Вы не имеете права оставлять вашу работу, нужную для общества.
— Брось, Дубль Ве, — говорят ему.
— Хозяйка! — кричит третий. — Еще по кружке! Выпей с нами, Дубль Ве.
— Сейчас пришлю за вами автобус, — говорит Дубль Ве, — и вы поедете на работу. — Он уходит.
— Какие странные пошли болезни, — говорит второй из мужчин, прихлебывая пиво. — У моего соседа вскочили на теле черные пузыри, и он умер.
— А, это в старину была такая болезнь, — говорит третий. — Называется черная оспа.
— А у меня, — говорит четвертый, — опухоль под мышкой, и что-то я себя плоховато чувствую.