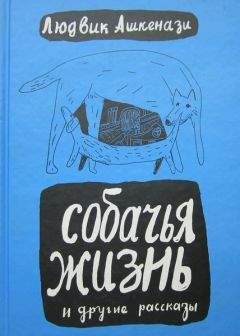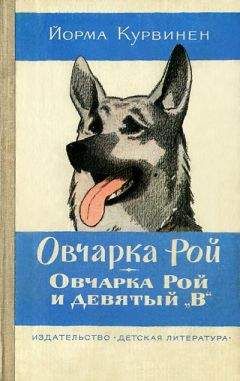Людвик Ашкенази
Собачья жизнь и другие рассказы
«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».
Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.
Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.
Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.
Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».
«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».
Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.
В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.
«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»
Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.
Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.
У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.
На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.
Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.
«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».
Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.
Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.
— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.
Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.
Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:
«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое[1] с получением соответствующей справки.
Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.
Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк.
С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский».[2]
«Как хорошо я сделал, — сказал себе Брут, — что не потерял ни одного рогалика, и свеклу тоже. Как это возвышенно — носить корзинку для Маленькой и делать так, чтобы она переставала плакать».
— Тут пишут о тебе, — сказала Маленькая тихо и немножко хрипло. — Ты ведь знаменитая собака, о тебе будет теперь заботиться сам Протектор.