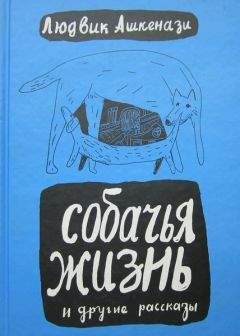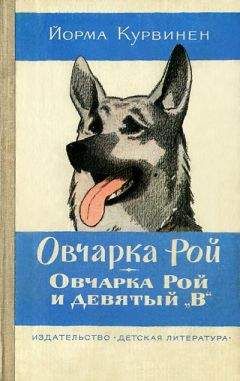И по её голосу Брут понял, что на самом деле она вовсе и не переставала плакать, а там, внутри, плачет всё сильней и сильней.
На следующее утро Брут получил ливерную колбасу. Он знал о ней уже два дня и радовался, что в воскресенье устроится под столом и будет ждать, чтобы ему бросили шкурку. А теперь она лежала перед ним вся, пахнущая салом, солью и майораном, длинная, толстая, вызывающая и в то же время покорная. «Она так чудесна, — подумал Брут, — что сначала я потрогаю её носом. Потом надкушу двумя зубами, чуть-чуть прорву шкурку и оставлю. Подожду, пока не вывалится кусочек начинки, потом лизну его и опять подожду».
Он и выдерживал характер — пока не надкусил шкурку. Потом запил колбасу водой, лёг у печки и стал смотреть, как Маленькая одевается перед зеркалом. Он видел, что их две, но чувствовал, что запах есть только у одной. И знал, что та, другая, в зеркале, — не настоящая, но всё равно любил её, хотя и удивлялся, что она идёт влево, когда настоящая — вправо, и сердился на неё, когда она покидала настоящую.
«Я-то её никогда не покину, — говорил он себе, — и, пока она захочет, буду ей принадлежать. И даже если не захочет, всё равно буду ей принадлежать».
Он смотрел, как Маленькая завязывает платок, под которым исчезли светлые кудри и розовые уши с крохотными серёжками.
Потом колбаса одолела его, и он уснул, а когда проснулся, Маленькая сидела около него на полу, скрестив ноги, и говорила ему всякие слова, и была немножко новой, а немножко — совсем-совсем прежней, как в те дни, когда его принесли к ней ещё щенком.
Одно слово было — «дурашка». Другое — «мохнатенький». А третье — «волчик».
Он совсем ошалел от счастья и не пытался понимать её, а только слушал. Он знал, что у людей важны не столько слова, сколько тон, которым они произносятся, что люди умеют говорить длинные слова ничего не значащим голосом, а короткие, которые сами по себе ничего не значат, — голосом тяжёлым и страдальческим, а иногда лёгким, как пенье жаворонка.
«Чего ты хочешь, милая, маленькая? — спрашивал Брут влажными глазами, весь трепеща от радости. — Как чудесно, что ты сидишь рядом со мной, раскинув по полу пахнущую овцой юбку! Как великолепно всё, что надето на тебе, и как изящно! Как чиста твоя кожа и как белы твои зубы! Как вкусна была твоя колбаса — много лучше рогаликов, которые принёс тебе я!»
Потом он ощутил в шерсти за ушами кончики её пальцев, блаженно застонал и закрыл глаза, чувствуя, что ни одна собака в мире не может быть счастливее.
А потом они шли в приёмник: Маленькая в платке, а немецкая овчарка Брут в наморднике — его проволока холодила чувствительный собачий нос. Брут искоса посматривал на хозяйку и вертел хвостом, который специалисты называют флагом. И некоторое время они так и шли с поднятым флагом, словно это была не прогулка, а манифестация.
Ещё на их улице Маленькую остановил дворник, у которого уже к завтраку варили гуляш. И завёл с ней откровенный разговор о жизни. Это было его любимое занятие и любимый способ ловли жертв.
— Вы меня знаете, сударыня, — сказал он. — А я ещё помню вашу покойную матушку, как она ходила к вам по субботам. Когда ещё тут жил пан профессор. Эх, если бы тогда знать, до чего мы доживём в нашей родной Чехии, да я бы, сударыня, первым пустил себе пулю в лоб!
— Мне пора идти, пан Пакоста, — сказала Маленькая. И в самом деле двинулась было дальше.
— Я мог бы привести вашу собачку обратно, — торопливо зашептал Пакоста. — Но это обойдётся в две косых — и то только для вас, пани Вогрызкова, мы же соседи. Они-то, эти немцы, они ведь все… хапен зи гевезен. К ним только надо уметь подойти.
Но тут дворник поспешил распрощаться, потому что Брут даже в наморднике производил на него не очень приятное впечатление.
Чем дальше они шли, тем больше попадалось им собак; а город вонял юфтью и бензином.
В ворота центрального приёмника, словно в Ноев ковчег, вливался поток всяких животных. И как в Ноев ковчег, они шли парами, только вторым в каждой паре был грустный человек. Больше всего было собак: шпицы, дворняжки, пудели всяческих пород — карликовые, большие и шнуровые; гончие, сеттеры, фокстерьеры — длинношёрстые, короткошёрстые и жесткошёрстые, мальтийские и японские пинчеры, пекинские болонки и виноградские спаньели; были тут даже одна маленькая люцернская гончая, вестфальский волкодав, шотландская борзая и крапчатый далматский дог, пёстрый, как праздничный галстук.
Испуганно пищали в клетках канарейки, попугаи поглядывали вокруг хмурыми стариковскими глазами, золотые рыбки нервно метались в аквариумах от стенки к стенке. И над всем этим стоял неумолчный шум.
Раздавались лай и мяуканье, чириканье и писк — и старый чиновник, заведовавший регистрацией домашних животных, окидывал генеральским оком всю эту толпу евреев и их живность. И с горечью говорил себе: «Надо же — как не повезло! Ведь в апреле-то я был бы уже на пенсии».
Потом вспомнил военные учения в Младой Болеславе и решил внести в этот хаос хоть какое-то подобие военного порядка.
— Становитесь попарно! — закричал он громким фельдфебельским голосом. — Собаки к собакам налево, кошки к кошкам в противоположный угол, птицы впереди, рыбы сзади, остальная мелюзга — ждать на тротуаре. Имя и фамилию, пожалуйста! Адрес и вероисповедание не нужно, и без лишних разговоров. И приготовить родословные — только для собак.
И он сел за дощатый стол под открытым небом, которое выгнулось над ним, как выкрашенный синей краской свод огромной канцелярии.
Самыми недисциплинированными оказались собаки. Они не были знакомы и обязательно должны были обнюхать друг друга. Проделывали они это очень церемонно и с большим увлечением. Обнюхивались главным образом уши, пах и зад. Брут нашёл только одну суку, которую счёл достойной себя. И сразу же недвусмысленно дал ей это понять. Сукой этой оказалась упомянутая уже крапчатая далматинка, собака весьма утончённая, с изящными томными движениями.
— Что тут происходит? — спросил её Брут коротким тявканьем.
— Не обращай на всё это внимания, — ответила далматинка, — а поухаживай за мной. Ну поторопись, я жду!
А длинная очередь неполноценных владельцев домашних животных всё текла и текла мимо грубо сколоченного стола, за которым восседал чиновник пражской магистратуры. В этот момент перед ним стояла маленькая старушка с немного скованными движениями; она была в праздничном платье, в шляпе с кокетливой вуалеткой, а на её щеках пылал огонь искусственного румянца.
— Ему уже сто тридцать седьмой год, — говорила она чиновнику, — и он всегда ел точно в семь, в двенадцать и в шесть часов. Если бы вы были так любезны записать это для имперских властей, они могли бы оценить подобную аккуратность.
А её старый, зелёно-жёлтый и столь бесконечно опытный попугай глядел из клетки стеклянными глазами, такими пустыми, что, видимо, только он один и понимал весь ход истории; медленно подняв голову, он выкрикнул почти человеческим голосом:
— Мешигене юдине, verrückt![3]
И потом молча смотрел, как его позолоченную клетку поставили в ряд с шестнадцатью другими клетками.
Старушка засеменила от стола и, только очутившись на улице, заплакала, прижимая к лицу батистовый платок. И таинственными знаками стала издалека давать попугаю какие-то инструкции относительно его дальнейшей жизни. Ей не хотелось возвращаться к себе: видно, она давно уже не выходила из дому, и всё это было для неё значительным и волнующим событием. Она даже начала утешать других грустных женщин, особенно бездетных.
— Никто не принесёт вам столько радости, как домашнее животное, — говорила она им. — Ведь от человека никогда не знаешь, чего ждать.
После двух ехидных такс и одной надменной, капризной и злобной ангорской кошки подошла очередь немецкой овчарки Брута. Он обнюхал стол и установил, что кто-то долго хранил в нём печёночный паштет. Потом исследовал чиновника, но тот не произвёл на него особого впечатления. И наконец с удовольствием отбежал к ограде, где его уже ждала изысканная далматинка. С Маленькой он не попрощался — он знал, что такое прощанье, но сейчас не видел для него никаких оснований.
А Маленькая, которая пережила уже много прощаний и разлук, помогла одному старичку разнять двух попугайчиков, неожиданно сцепившихся не на жизнь, а на смерть, и подождала, не оглянется ли на неё Брут. Она даже позвала его, но он не услышал, потому что вокруг стоял громкий крик. Тогда она ушла — без того сосущего ощущения где-то под ложечкой, которым обычно сопровождается горькое расставание, ушла, постукивая высокими каблучками и немножко презирая себя за одну унизительную мысль: она подумала, как хорошо было бы поджарить к ужину колбасу, которую съел Брут.