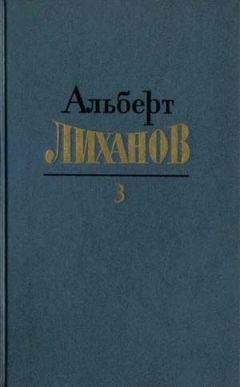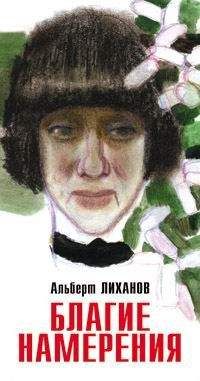Что делать, так вышло - никогда с того случая Василий Лукич живого немца не видел, и старое обросло коростой, забылось.
С Ксешей, под госпитальной лестницей, они поклялись про старое забыть, зачеркнуть его, коли вышло так и они, два перста посередь войны и горя, живыми остались, жить, жить, жить, наслаждаясь жизнью, любя друг друга и торопясь всем этим насладиться, потому что жизнь по сравнению со смертью недолговечна.
Они поклялись там, под лестницей, в укромном уголке, про прошлое позабыть, не ворошить никогда и жить только сегодняшним, а еще лучше завтрашним временем, так оно получилось: ни Ксеша, ни он, Василий Лукич, никогда - ни промеж себя, ни со стариком Морозовым, который гостевал у них чаще других, ни даже с дочкой Анкой не говорили про самое тяжкое в жизни Ксеша про побег из плена и могилу с заживо закопанными людьми, Василий Лукич про то... В лесу...
Время бежало себе потихоньку, вот уже и к полтиннику подкатило, и Василий Лукич полагал, что старое ушло, забылось. Ну нет, конечно, само собой такое не забудется, но ведь он же человек, и поэтому, когда накатывали в самый негаданный час тяжкие видения, Василий Лукич их тотчас прогонял, старался думать о чем-либо другом, затевал разговор с Ксешей или настраивал старенький приемник на музыку, и видения отходили, прятались в тумане двадцати с лишком лет. И Василий Лукич радовался, что старое не давит его, как хомут, что он человек и, коли надо, сумеет себя перебороть, и если уж не забыть, то не вспоминать...
Немцы купили сразу две матрешки, видно, поудивлять там, у себя дома, знакомых или родню, и двинулись дальше. Василий Лукич неотвязно шагал за ними, и случилось то, что и должно было случиться: тот, белобрысый, сказал что-то своим спутникам, и они все трое поглядели на Василия Лукича. Поглядели внимательно, без усмешки. "Заметили, значит, - подумал Василий Лукич и выпрямился. - Ну-ну, замечайте!" И увидел себя вдруг посреди толпы с протезной ногой за спиной, обмотанной в холстину, невидный, зряшный на первый взгляд мужичонка, но голову держит прямо и глаза от немцев не отворачивает, не смущается.
"Это вам надо отворачиваться! - подумал он с неожиданной злобой про двух парней и молодящуюся женщину. - А мне что ж, у себя дома". И посмотрел на приезжих с вызовом.
Они будто перехватили его взгляд и пошли быстрее, хотя и останавливались возле всякого ларька, но не подолгу, не как прежде, и Василий Лукич нет-нет да и ловил на себе настороженный взгляд то женщины, то белобрысого, то его дружка.
Василию Лукичу тоже пришлось прибавить ходу, и деревянная нога опять застучала по асфальту, не заглушаемая потертым костыльным наконечником из черной резины.
Василий Лукич глядел на немцев и издали и вблизи, рассматривал их лица, их одежду и чем дальше шел за ними, тем все больше чувствовал какую-то свою расколотость.
Он искал в них того немца, того, которого искал на войне, но что-то ничего у него не получалось. Женщина, конечно, в расчет не шла, хотя, пожалуй, она одна из троих могла помнить и знать войну, ей, пожалуй, тоже было под пятьдесят, как и Василию Лукичу, но уж больно умело она маскировалась - высокие каблуки, тонкие чулочки, только вот лицо, как его ни крась и ни бели, все равно выдает, и морщины мелкой сеткой, видать, не за так... А парни... парням, наверное, столько же, сколько ему тогда было... Он не понял тогда, возле избы, почему Николай Иванович Рубцов спросил, сколько ему лет, даже, можно сказать, не дошел до него этот пустой вопрос. Но он оказался не пустым, и Ксеша в госпитале, когда он еще ходить не мог, тоже спросила его об этом. Василий Лукич повторил: "Двадцать четыре" - и заметил, как легкая тень пробежала по Ксешиному лицу. Она помолчала, пристально вглядываясь в него, а потом вынула из кармашка маленькое зеркальце, с ладошку величиной, и протянула его Василию Лукичу. Он взглянул и не узнал себя. В первый раз за все это время гляделся он в зеркало, потому что брили его, как тяжелораненого, медсестры, а иной нужды ему глядеться в зеркало не было. Он взглянул на свое отражение и увидел седого дядьку с впалыми щеками.
Этим немцам было тоже что-то возле этого - двадцать четыре - двадцать шесть, не больше, но они были совсем другими, впрочем, ничего в этом особенного и нет. Они, пожалуй, и родились-то после войны, вроде его Анки.
В этом ничего особенного нет, но другая мысль вдруг больно резанула Василия Лукича. Ведь мог бы вон тот, белобрысый, или его товарищ, могли бы они быть там, тогда... И мог бы вот этот, белобрысый, а не тот, с растерянным лицом, крикнуть, увидев его "Ахтунг!"... Василий Лукич снова припомнил лицо немца, которому он размозжил голову. По дороге в госпиталь, в тесном санитарном поезде, да и потом, в госпитале, он все думал, тот ли это немец, и выходило, верней всего, что не тот, не могло быть такого совпадения, чтобы ему попался именно тот, который наследил в избе... Но тогда для него это был тот немец. Василий Лукич отметил растерянность на его лице, разглядывать его больше не было времени, и сейчас он вдруг подумал, что ведь, в сущности, тот немец с растерянным лицом ничем не отличался от этих двух парней. Ведь и они могли быть там?
Василий Лукич жевал погасшую папироску, шумно затягиваясь, и неуклонно шел за немцами.
Ярмарочные ларьки кончились, дальше начинался парк, рассеченный асфальтированными пустынными дорожками.
Немцы шли по одной из них, и Василий Лукич на минуту остановился, переведя дыхание и раздумывая, как быть дальше. Теперь уже ни за кого не спрячешься - впереди безлюдная дорожка, и он один против трех немцев.
Но немцы удалялись, и Василий Лукич, словно загипнотизированный, двинулся дальше.
Парк походил на тот осенний лес. Тихо шурша, падали на землю пестрые листья, пахло прелой травой и желудями.
Немцы неожиданно сели на лавочку и теперь уже все втроем пристально, не таясь, разглядывали Василия Лукича.
Сердце заметалось в нем, раскачиваясь, словно маятник, но отступать было поздно, да и не в его обычае, и Василий Лукич, замедляя шаг и все еще жуя погасшую папироску, двигался к ним.
Все было, как тогда, - и лес, спокойный и прозрачный, и боль из-под содранной коросты, свежая, нестерпимая боль, и немцы, которых он наконец-то, столько времени погодя, рассмотрел.
Василий Лукич медленно подошел к скамейке и в упор взглянул в их лица.
Да, все было, как тогда, - и лес, и немцы, только ни у них, ни у него не было оружия. Да еще резала спину протезная нога, память войны. Но это ничего не меняло для него. Василий Лукич в упор глядел на немцев и желал увидеть в их глазах, как тогда, растерянность...
Он смотрел то на женщину, то на белобрысого, то на его дружка, вглядывался в их лица твердо и требовательно и вдруг... вдруг вздрогнул...
Немцы - все трое! - смотрели на него не растерянно, нет... Они смотрели на него с жалостью. Василий Лукич знал такие взгляды. Так, жалеючи, глядели на него женщины, особенно тогда, после госпиталя, когда он, седой, одноногий, совсем мальчишка, шел по деревне, где они жили с Ксешей. Война еще не кончилась, она кончилась только для него, и, глядя на колченогого парня, женщины, конечно, думали о своих ребятах, о своих мужиках и, жалея его, Василия, заранее оплакивали тех, кто вернется, как он, инвалидом, да и вернется ли вообще...
Но тогда были свои. Деревенские. Бабы...
Все было так, как тогда, - и лес, и немцы... Но это были не те немцы... Те немцы не могли глядеть на него так...
Ах, черт, как глупо, как нехорошо получилось. Он смотрел на чужих людей со злостью и ненавистью, думал о своем, а они отвечали ему жалостью. Жалостью...
Все было так, как тогда, - и лес, и немцы, но это были не те немцы... Не те! Не те!
Василий Лукич потоптался в растерянности и повернулся, чтобы идти дальше.
Неожиданно белобрысый парень, тот, который кричал "Ахтунг!" в ювелирной лавке, вскочил и полез в карман. "Что за черт?" - едва успел подумать Василий Лукич, а белобрысый вытащил что-то блестящее.
- Битте! - сказал он и протянул руку к Василию Лукичу.
В руке у него щелкнуло, и столбиком поднялся язычок пламени. "К чему это он?" - подумал Василий Лукич и тут только сообразил, что держит во рту изжеванную папироску.
Он вздохнул, прислонил папироску к огню, пыхнул сизым дымком и молча кивнул, благодаря.
Он не смог сказать "спасибо" все-таки.
Белобрысый отступил в сторону, а Василий Лукич зашагал, постукивая, по аллее.
Возвращаться назад было неловко, и он ушел довольно далеко, пока не выбрался из парка.
Листья шуршали под деревяшкой и заглушали ее стук.
Было тихо и тепло.
Василий Лукич расстегнул дрожащей рукой ворот рубашки и вдруг вспомнил, что ничего ведь так и не купил Ксеше...
Однако возвращаться было некогда, иначе опоздаешь на дачный поезд, который ходит раз в сутки. Он задосадовал на себя - в кои-то годы что-то придумал и сам же сорвал, не выполнил данное самому слово, но делать было нечего, и Василий Лукич отправился на вокзал.