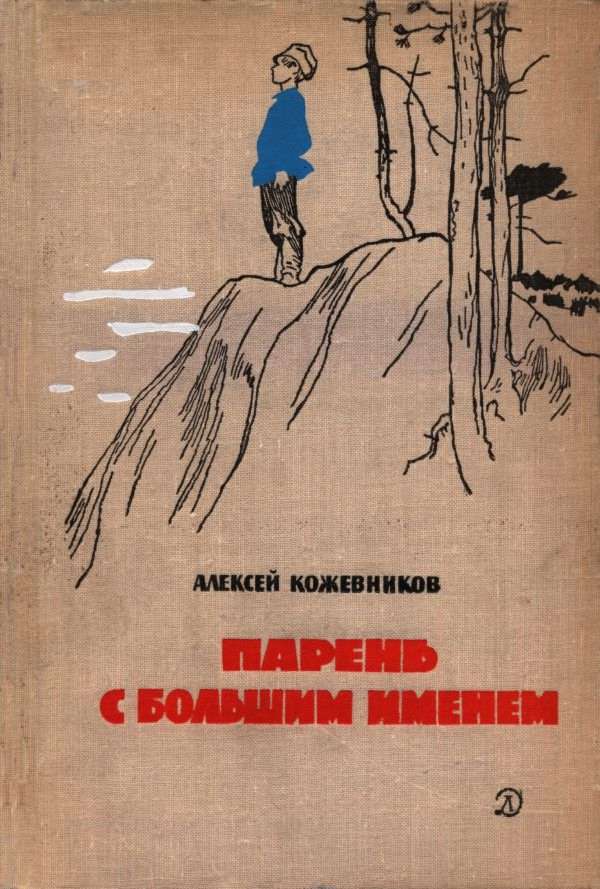санок у Тансыка не было.
За зиму Тансык измучился ожиданием весны, измучил и родителей постоянными спросами: «Когда же мы поедем на джейляу?»
Наконец этот день пришел. Утром отец Тансыка, Мухтар, заседлал коня и уехал в степь. Она была свободна от снега, лишь по оврагам он продолжал лежать, напоминая кучи белой шерсти. Отец вернулся к полудню, позвал старшего сына Утурбая и сказал:
— Поди собери стада!.. Поедем на джейляу.
Тансык радостно взвизгнул, перевернулся кувырком на грязной земле и, вбежав в дом, крикнул:
— Собирайте юрту, поедем на джейляу!
Мать и сестра расшивали яркими нитками кошму. На слова Тансыка они не откликнулись, будто это не касалось их.
— Отец говорит — поедем. Бросайте кошму! — закричал Тансык.
Вошел отец и подтвердил слова сына. Мать и сестра, свернув кошму трубкой, принялись за сборы.
Отец повернулся к Тансыку и велел:
— Поди помоги брату! Один он, пожалуй, и не соберет стад.
Тансык выбежал из мазанки и начал карабкаться на заседланного отцовского коня. Взобравшись, он ударил коня черными блестящими пятками и с радостным гиком помчался за братом.
В молодости отец Тансыка свои стада считал гуртами, но потом они начали быстро убывать, и под старость, к шестидесяти годам его жизни, от стад сохранилась маленькая горсточка — пять взрослых лошадей, два жеребенка, два верблюда, полсотни овец, еще меньше коз и три коровы с телятами.
Все стадо ходило кучкой в долине около аула. Совсем незачем было посылать сына: покричать — и стадо пришло бы само, но старик, обедневши, не хотел замечать бедности и вел себя как богач.
Он, как и в достатке, говорил:
— Поди собери стада! Тансык, помоги ему! — и при этом важно перебирал руками свою длинную редкую бороду.
Сыновья гнали стадо, гикали, щелкали бичами, создавали шум и переполох, точно и в самом деле им приходилось гнать тысячный гурт, а старик похаживал около мазанки с озабоченным лицом.
Первыми подбежали к нему кони — две матки и старый мерин. Он всех похлопал по шеям. Подошли верблюды, коровы, за ними тесной кучей козы и последними овцы. У коз была повадка ходить впереди овец. Овцы же сами не умели находить пастбища, сбивались одна к другой, топтались на месте и, не будь коз, верно, подохли бы от голода.
Подъехали сыновья.
Отец спросил:
— Всех ли собрали? Хорошо ли осмотрели лощинки и камни?
— Всех.
— Нет, пересчитай! Козлята могли отбиться.
Утурбай пересчитал стадо, но отец не успокоился на этом и послал его снова оглядеть окрестности.
Сын ехал не торопясь по первой молодой траве, глядел на чуткие уши своего коня; ему незачем было осматривать степь, он ехал зря и думал: «Упрямый, смешной старик! Надо заводить соху и пахать землю. Здесь растет хорошая трава и будет хорошая пшеница».
Мать собирала в дорогу чугуны, котлы, вкладывала одну в другую пестрые пиалы, свертывала трубками кошмы и шепотом говорила слова, которые по старым поверьям приносили удачу во всяком деле. Лицо ее, похожее на серый картон, подрагивало около губ. Это движение всегда появлялось, когда мать чему-нибудь радовалась; оно было улыбкой человека, не умевшего радоваться открыто и смело.
Сестра, пятнадцатилетняя девочка, еще не научившаяся держаться молчаливо и строго, с песнями и шутками выносила скарб из мазанки.
Тонкокостная и хилая с виду, она была достаточно сильна, чтобы выносить по две тяжелых кошмы зараз.
Брат Утурбай увязывал добро в тюки. Он умело прилаживал штуку к штуке, и тюки получались складные. Отец стоял в стороне и наблюдал. Он никогда не помогал семье в работе, он считал, что его дело наблюдать, приказывать и ругаться. Тансык пытался помогать матери, сестре, брату, но его все гнали. Он еще не приобрел сноровки и только мешал и путался под ногами.
Тюки увязаны. Отец взял за повод верблюда и начал укладывать его на землю. Он дергал за повод, бил верблюда по ногам, а тот кричал во все горло, не хотел ложиться. Его черные маленькие глаза искрились самой откровенной злобой. Наконец верблюда заставили лечь. Другой лег охотней и вопросительно повернул свою острую голову к товарищу.
Утурбай шерстяными веревками прикручивал к спинам верблюдов тюки. Иногда ему требовалась помощь, но он звал не отца, а либо сестру, либо мать. На отца он глядел сердито и презрительно.
Тансык переваливал пустые горбы верблюдов с боку на бок, чем сильно мешал брату. Утурбай долго терпел, потом озлился и хлестнул мальчишку веревкой. В другой раз Тансык завыл бы волком, в этот же день он был так переполнен радостью, что только рассмеялся и обозвал брата вонючим козлом.
Погрузили тюки, покрыли старыми, изорванными, но не потерявшими яркость красок коврами, поверх ковров усадили мать и сестру.
Сестра с высоты верблюжьего горба помахала Тансыку рукой и сказала:
— Ты останешься в ауле. Тебя съедят крысы.
Все засмеялись и начали твердить:
— Ты останешься в ауле. Тебя съедят крысы.
Тансык не знал, верить или не верить, но быстро придумал выход:
— Я поеду на баране.
— Волк съест тебя вместе с бараном.
«Верно, может съесть», — подумал Тансык и надул губы.
Отец пальцем ткнул в его надутую щеку и сказал:
— Ты поедешь на коне. У тебя будет свой конь и свое седло.
Тут же заседлал старого уезженного мерина и кивнул:
— Садись… Береги и ухаживай!..
Парень взобрался на седло,