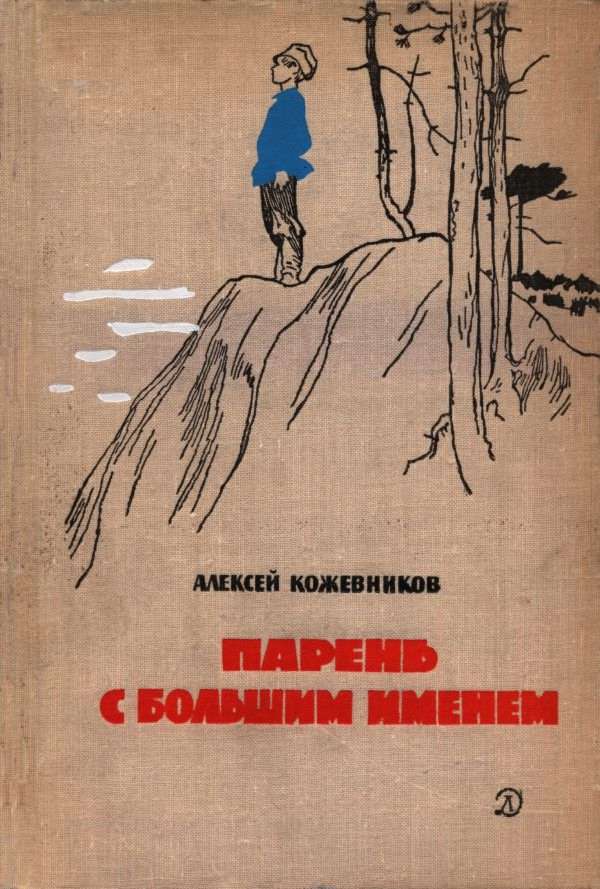у баррикады, преграждавшей вход красным от Волги. Яшка подбежал к ним.
— Дяденька, пусти в Услон! — попросил он.
— Чего запыхался? — спросил усталый, замученный солдат.
— Собака вот бешеная, чуть отбился. — Яшка показал на Черныша, который крутился около него.
— Ку-да бежишь?
— Мамка в Услоне.
— Проходи! — махнул солдат.
По лугам среди ям бежал Яшка. Птичка вцепилась когтями в рубаху, в плечо ему и висела так.
Солдат выстрелил в Черныша, перебил ему ногу. Кувыркнулся пес, вскочил и на трех здоровых ногах перемахнул через баррикаду.
— Стреляй, бей его, разорвет мальчишку! — кричали позади.
Началась пальба по Чернышу. Шальная пуля угодила в птичку-счастье, и та, убитая, повисла на плече у Яшки.
Красные видели, как мальчик и собака перебегали под обстрелом со стороны белых, и усилили ответный огонь, а потом подхватили Яшку и спрятали в окоп. Пляшущей от страха рукой он подал записку от комиссара.
Некоторое время он не мог говорить и дышать нормально, а хватал и выбрасывал воздух со свистом и шипом, как паровоз. Его обступили красноармейцы, отцепили у него с плеча мертвую птицу. Яшка положил ее за пазуху.
— Разойдись! — скомандовал начальник. — Сгрудились… бахнет снаряд и всех накроет. Куршак, отведи парня в штаб!
Красноармеец Куршак выпрыгнул из окопа и повел Яшку, укрываясь среди ям и куч мусорной свалки близ Волги. Яшка успокоился. «Счастье» холодело и коченело на груди у него. Черныш отставал, зализывая раненую ногу.
…Ночью Яшка с карабином в руках бежал по улицам в отряде красноармейцев. Они стреляли, хватали врагов, куда-то уводили, а он метался, кричал: «Товарищи!» — и не знал, что делать.
Карабин был заряжен, но парень не умел выстрелить. За пазухой у него лежал окоченевший попугай. Черныш на трех ногах прыгал за Яшкой, лаял на огни, на мрак ночи, выл и злился. Он хватал зубами чужих и своих, однажды ухватил даже Яшку.
Днем Казань перешла к красным. Белые, а с ними несколько тысяч населения отступали на юг к Симбирску. Яшка, грязный, пыльный, стоял на дворе казармы.
Парня обступили красноармейцы:
— Это что за вояка? Не Яшка ли птичник? Дошел?
— Он, Яшка!
— С карабином… На плече его носишь, коромыслом? — шутили красноармейцы.
Подошел Ханжа.
— Здорово! — протянул руку. — Слыхал про тебя. А где птица?
— Убили.
— Жалко.
— А клетку и билетики выбросил.
— К Ефимке забежим?
Под вечер хоронили погибших товарищей. Гробы везли на орудийных лафетах. Из строя выбежал Яшка и положил на лафет из-за пазухи птичку-счастье. Знали все, что птичка погибла при исполнении революционного задания, и не перестали петь похоронный марш, а красноармеец-орудийник прикрыл птичку уголком красного знамени… Схоронили птичку-счастье в братской могиле с товарищами, убитыми за освобождение Казани.
Побежали на Суконную. Грузный Ханжа еле успевал за Яшкой.
— Ханжа!.. Окурок!.. — радостно встретили их ребята-птичники.
— Где Ефимка? — крикнул Ханжа.
— Не знаем.
— Врете. Давай забирай билетики и птичек и кто куда. От себя работай!
— Э! Идем от себя! — зашумели птичники.
— Где Ефимка?
— В амбаре он, — выдали ребята.
Нашли хозяйку и потребовали ключ. Она клялась, божилась, что ключ у самого Ефима Спиридоныча, а он ушел куда-то по делу.
— Пойдешь с нами к коменданту города! — пригрозил Ханжа.
Тогда хозяйка открыла амбар, и там за мешками нашли Ефима Спиридоныча. Ханжа схватил его за волосы и выволок на улицу.
Ханжа и Яшка под конвоем вели своего бывшего хозяина.
— Шагай, шагай! — поторапливали они его. — Там разберут, получишь и за наши спины, и за все остальное.
Ребята с птичками-счастье шли за ними.
— Яшка, с птичкой больше не пойдешь? — спрашивали они.
— С отрядом поеду.
— Ефимка прикрутит нас, как вы с Ханжой из города уйдете.
— Не прикрутит, его самого прикрутят.
Сдали Ефимку коменданту города, потом простились с птичниками и побежали догонять красноармейский отряд, который двинулся из Казани на юг, берегом Волги.
Яшка беспокоился, что Черныш тоскует, он сдал его в обоз до излечения ноги.
Черныш сидел в телеге, привязанный ремнем, и подвывал скрипучим колесам.
ТАНСЫК
Часть первая
ДЛИННОЕ УХО
Ездить верхом Тансык начал с первых дней своей жизни. Еще сосунком мать возила его к знахарю полечиться от запора. Тансык плакал всю дорогу: каждый шаг лошади острой болью отдавался в его тугом, переполненном бараниной животе. Лет с двух он начал кататься верхом на телятах и баранах. Много раз падал, ушибался, но любил эту забаву.
Пяти лет он впервые прокатился на коне самостоятельно и довольно удачно, только немножко сбил себе зад, а вскоре получил коня и седло в собственность.
Тансык хорошо помнит этот день, любит рассказывать о всех мелочах и подробностях.
Был апрель месяц. Подходило время выезжать из зимнего поселка — аула на летнее пастбище — джейляу. Зиму Тансык провел невесело. В ауле было всего три дома, и ни в одном из них сверстника Тансыку. Все дни сидел он в холодной, полутемной мазанке с единственным маленьким окном, играл щепками саксаула: стругал их ножиком, переносил из угла в угол, воображая, что перегоняет стада. Играть на воле ему не запрещали, но выходил он редко: там выли ветры, летел снег, ноги увязали в сугробах, а лыж и