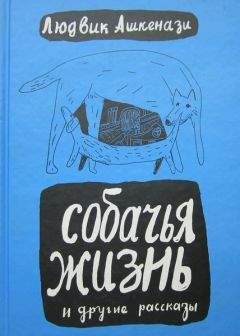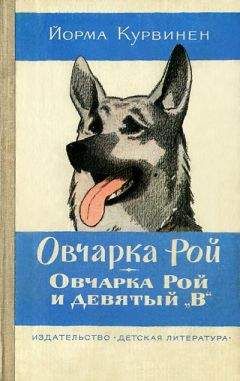Шупатко побледнел, так он испугался собственных мыслей.
— Это что же, тоска? — спросил он сам себя. — Was passiert denn mit mir?[48] Тоска, что ли? А может, я загниваю? Очевидно, загниваю. Но ощущение прекрасное! Теперь я понимаю, почему эти еврейские интеллигенты столько болтали о милосердии. Оказывается, оно действительно приятно, ишь хитрые свиньи, эти коммунисты и попы!
И всё время он не переставал петь. Все его чувства были невольно обращены к искусству. Шупатко-артист вылезал из мундира, привлечённый тлением осени. А может, это был просто инкубационный период гриппа, который Шупатко схватил в субботу. Пути искусства неисповедимы.
Переполненный возвышенными чувствами и бациллами, Шупатко шёл по лагерю. Но его мирское лицо оставалось высеченным из гранита.
Случилось так, что в это время некто Рышанек, рядовой заключённый, бывший скульптор, потерял очки и в отчаянии искал их в грязи.
Здесь уместно сказать, что очкарикам нелегко живётся на свете. Мир хочет видеть естественный блеск и неподдельное чувство. Очкарики всегда кажутся чуточку умнее или загадочнее нормальных людей. Поди знай, что думает человек за своими очками. В очках — он чем-то значительнее других, без очков — чем-то меньше; и то и другое непопулярно.
Впрочем, Рышанек не ломал себе головы над этим; он знал, что в лагере очкарику худо, но без очков он просто погиб. Поэтому скульптор склонил к грязи свой смелый нос, подставив теплу милосердного солнца свой потёртый зад. А когда поднял близорукие глаза, то скорее почувствовал, чем увидел, что над ним стоит сам Конрад Шупатко, заместитель лагерфюрера. Рышанек подумал, что оказаться в этот момент без очков — счастливая случайность, и искать их означало бы только дразнить судьбу, которая, как известно, весьма чувствительна к щекотке. Всё в скульпторе оцепенело; ему казалось, что он, как в сказке, превращается в камень. «Красивая смерть для скульптора, — подумал он, — в стиле: моя единственная стоящая статуя».
— Это кто же здесь ест глину? — любезно осведомился Шупатко. — Кто это питается здесь землей? Ты что, голоден? Или тебе не нравится наша кухня? Мы недостаточно стараемся? Ведь у нас повар из «Адлона», Берлин, Унтер ден Линден. Ну-ка, посмотри мне прямо в глаза и скажи честно, что ты ищешь?
— Разрешите доложить, — сказал Рышанек, вытянувшись в струнку, — я пробовал глину; по профессии я скульптор и иногда, невзирая на все усилия, не могу удержаться при виде хорошей глины, так и тянет потрогать — даже в рабочее время. Это моя слабость. Прошу прощения или наказания.
Говоря это, он незаметно нащупывал ногой потерянные очки. Он чувствовал себя заживо мертвым.
— О, так ты скульптор? — сказал Шупатко. — Вот видишь, скульптор, мы и послали тебя ворочать камни. Na bitte[49]. Ты, значит, художник. Ein Bildhauer[50]. Ты кто? Чех? Кого лепил? Бенеша? Или, как его… Гуса?
— Разрешите доложить, я художник, — проговорил Рышанек. — Однако я никогда не увлекался гнилым искусством. Я делал надгробные памятники, и то только для честных граждан, не занимавшихся политикой.
— Na gut[51],—сказал Шупатко. — Постарайся выжить, а после будешь у меня заниматься искусством. Постарайся выжить. А как всё кончится, вас, художников, отпустят первыми. Наш фюрер любит художников, он ведь сам ein Kunstler[52]. И вы не должны на него сердиться, что ему пришлось посадить кое-кого из вас, он-то хорошо знает вашу подноготную. И я тоже знаю. Как ты думаешь, кем я был в гражданке?
— Скульптором? — трепетно спросил Рышанек.
— Нет, тенором, — ответил Шупатко. — Певцом. Но, конечно, мне некогда было этим заниматься, я ушёл в политику, а это смерть для артиста. Ты с этим согласен, не правда ли? Как по-твоему — политика для артиста смерть? Не знаешь, что ответить? Не бойся, я не доносчик. Это просто моя работа.
Глядя в вытаращенные светло-голубые глаза пана Рышанека, Шупатко снова почувствовал в себе что-то неизъяснимое, какую-то странную грусть, гложущую внутри, как слепой крот. Он заметил, что у Рышанека совсем детские губы. И сказал себе, что на этот раз поддастся настроению и сделает доброе дело. Тотчас же он стал придумывать такое доброе дело, которое было бы выгодным одновременно и для него, и для рейха.
Из лучей осеннего солнца, гриппозных бацилл и древнегерманской чувствительности у него логически возник высокохудожественный образ его собственного бюста. И ему захотелось петь. Но это желание он подавил.
— Что тебе нужно для этого, для твоего ремесла? — спросил Шупатко. — Нужна глина — посмотри, сколько здесь глины. Вода? Камень? Сколько душе угодно. Молотки у нас есть, долота тоже, так в чём дело? Хочешь поскульптурить?
— Никак нет, — воскликнул бдительный Рышанек. — Со своим прошлым я окончательно порвал. Хочу искупить свою вину физическим трудом.
— Взгляни на меня, — терпеливо продолжал Шупатко. — Рассмотри меня как следует. Что ты видишь во мне? Как бы ты изобразил меня? Как думаешь, можно было бы сделать такую статую, ну, скажем, как я стою? Просто, как я стою. Тебя зовут Рышанек? Да не трясись ты передо мной. Сколько тебе надо на это времени? Полгода? Год?
— Года, наверное, хватит, — сказал Рышанек без размышления. — Прошу прощения, но изобразить вас не так легко. В вас есть какая-то особенная, прямо непередаваемая задумчивость. Разрешите также доложить, для работы мне понадобится небольшая бригада, — носить воду и размешивать глину.
— Это мелочь, — возразил Шупатко. — Бригаду я тебе дам. Один будет носить воду, другой — глину, третий — размешивать, и ещё дам тебе кладовщика смотреть за инструментами. Вы получите новые ботинки; я распоряжусь, чтобы вам построили особый барак в сторонке, где бы ты мог спокойно творить. Я тоже всегда запирался, когда пел. Вот так… Конечно, вам придётся ещё сделать, скажем, скульптуру «Тысячелетие рейха», её можно слепить кое-как. Сделаешь двух орлов или какой-нибудь там венок, и это будет подарок рейху от заключенных, понимаешь? Приучись мыслить политически, это всегда пригодится. Итак, Рышанек, завтра ты явишься к Schreiber[53] Сметачеку, подбери себе в бригаду кого хочешь. Только не дохляков, а то ничего не сделаете. И откуда ещё берутся в вас силы? Человеческое тело — чудо. Как по-твоему, Рышанек? Человеческое тело — чудо?
— Разрешите сказать, человеческое тело — чудо, — проговорил Рышанек, и в нём звенел колокольный звон, но отнюдь не погребальный. — Человеческое тело — великое чудо. Мы, скульпторы, хорошо знаем это.
— Ну, приходи, Рышанек, я буду тебе позировать, — сказал Шупатко.
И он возликовал в душе, потому что уже видел свой бюст на рояле, между двумя аспарагусами в его дортмундской квартире.
Он отошёл более чётким шагом, чем обычно, чтоб никто не заподозрил, что он сейчас омыл свою душу. Он даже не обратил[54] внимания, как при втором шаге раздавил очки Рышанека. Они хрустнули у него под ногой, но звук не дошёл до его сознания, в этот момент витавшее где-то высоко над землей.
Пан Рышанек не видел, но услышал это. Он подумал, что стёкла в очках были толстые, девять диоптрий, их выточили в самой Иене у великого Цейсса.
Рышанек вдруг стал похожим на летучую мышь, с той разницей, что у летучих мышей в ушах есть радар, а у Рышанека его не было. Вокруг себя он видел только густую молочную мглу. Он сделал три шага направо, потом пять шагов налево, и ещё пятнадцать шагов и понял, что из этой мглы ему никогда не выбраться.
Вдруг он увидел перед собой уголок своей пражской мастерской, даже паутину разглядел, и ту странную статуэтку, которую он называл «Человек» и которую двадцать два года лепил из глины и каждое воскресенье переделывал снова и снова. У статуэтки до сих пор не было лица. И вот теперь он увидел его. Лицо имело благородные черты Конрада Шупатко, чуть приподнятые брови и слащаво улыбалось.
— Теперь я понял, — сказал он. — Не очки я потерял, я потерял глаза. Я слышал, как они треснули. Мамочка, что же я буду делать, если выживу?
Рышанеку удалось выжить. Всё сложилось для него не так уж плохо. Он стал действительным членом Союза работников изобразительных искусств, к нему обращались, когда надо было сделать бюсты выдающихся личностей. Он делал их из бронзы, а иногда высекал из гранита.
Он жил хорошо. Из года в год заказывал себе новые очки и покупал, одну за другой, новые вещи для своей квартиры и мастерской. Но один раз случилось, что, ударив молотом по долоту, он услышал треск, — такой треск он уже слышал однажды.
«Опять треснуло, как тогда, — подумал он. — Что бы это могло треснуть? Тогда это были глаза, значит, теперь это может быть только сердце».
Он сел возле незаконченной статуи, которую всё ещё называл «Человек», хотя не придавал этому слову уже того юношески большого значения, как раньше.