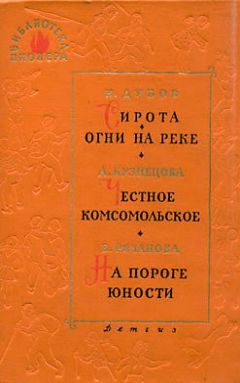Ну, без руки, — без руки жить можно. А может, и рука останется… Как же это так? Он вот есть, а Андрея нет… И теперь голоси не голоси, а его не будет…
Среди воплей Гальки ему послышались другие звуки. Он тяжело поднялся и пошел в избу. Галька билась в углу на лавке, а годовалый Сашко и двухлетний Васько сидели на кровати и, не сводя с матери вытаращенных от ужаса глаз, орали уже надорванными голосами. Сыны Андреевы, внуки!..
— Годи! — грохнул Устин Захарович кулаком об стол. — Детей уморить хочешь?!
Галька испуганно вскинулась, перестала голосить. Свекор никогда прежде на нее не кричал. Она бросилась к детям и, обливаясь слезами, начала успокаивать.
Внуки! Сыны Андреевы… Ради них надо было стерпеть всё. И Устин Захарович стерпел. Он не проронил ни слезинки, даже наедине с собой не затрясся в беззвучном мужском горе. Оно окаменело в нем, не вышло наружу, только стал он еще суровее и молчаливее.
Ночью во двор МТФ, где дежурил Устин Захарович на случай, если налетят фашисты и набросают зажигалок, прискакал Иван Романович, председатель, приказал выводить скот и гнать на шлях — в случае, немцы прорвутся, чтобы им не достался.
Устин Захарович вместе с двумя доярками гнал встревоженное, ревущее стадо по ночной степи и оглядывался. Сзади небо пламенело далеким рокочущим заревом. Устину Захаровичу казалось, что оно растет все выше и выше, подползает к селу, где остались Галька и внуки.
Вернуться за ними уже не довелось. Фронт оказался за спиной, скот нужно было гнать почти без роздыха. Почерневший, словно обуглившийся от зноя, усталости и горя, Устин Захарович гнал скот на восток, все дальше уходя от опасности и все ближе подходя к границе своего терпения.
Оно оборвалось под Ульяновском. Сдав скот в совхоз, Устин Захарович ушел в армию. По возрасту он не годился в строевые — его зачислили ездовым.
Падали лошади, ломались повозки, а он все вез и вез нескончаемый груз войны. И все время ждал, когда какая-нибудь случайность забросит его поближе к родному селу. Случайность не подвернулась. И он опять ждал.
Только в Штеттине выпустил он наконец из рук вожжи войсковой упряжки и сел в поезд с демобилизованными первого срока. В райцентре на вокзале к нему бросился усатый солдат без погон. Левый рукав его гимнастерки был аккуратно подвернут и пристегнут булавкой.
— Устым!.. — закричал солдат, и только тогда Устин Захарович узнал в нем односельчанина Герасимчука. — Живой!
— Живой, — ответил Устин Захарович.
— А меня вот переполовинили! — с уже привычным ожесточением сказал Герасимчук и сплюнул.
Они отошли в сторонку от толпы, спросили друг друга о службе.
Оказалось, что Герасимчук отвоевался под Люблином.
— А как село наше? Иван Романович вернулся?
Герасимчук махнул рукой:
— Убит Иван Романович. А село — почитай, половина сгорела. Немцы спалили. Моя хата сгорела… — Герасимчук помялся и добавил: — И твоя.
— Ну, а… — начал и не кончил Устин Захарович.
Герасимчук полез в карман за папиросами, долго мучился, доставая папиросу одной рукой. Папироса сломалась. Он скомкал ее и, не глядя в лицо Устину Захаровичу, сказал:
— Нема их, Устым. Угнали гады. Многих угнали. И твою Гальку.
— С ребятами?
— С ребятами… Говорят, которые возвращаются. Может, и твои вернутся…
Они помолчали.
— Ну, бывай здоров! — сказал Устин Захарович, повернулся и отошел.
— Куда ты? Погоди! Может, попутная машина будет! — закричал Герасимчук.
Устин Захарович торопливо шагал, не отвечая и не оборачиваясь.
Шлях был тот же, так же кое-где торчали обшмыганные колесами кусты, так же, как и четыре года назад, лежала на нем серая бархатная пыль. И съезд на грейдер был тот же, только грейдер давно не ремонтировали, он зарос травой и превращался уже в проселок.
По селу он шел опустив голову, не глядя по сторонам. В окнах уцелевших хат мелькали женские лица. Узнав его, односельчанки горестно качали головой, рукавами смахивали слезу. Устин Захарович, не оглядываясь, шагал к своему порядку.
Торчали обгорелые деревья, полуразвалившиеся печи и кучи глинистого мусора, уже заросшие крапивой, конским щавелем и лопухами.
Устин Захарович шел от кучи к куче, узнавая и не узнавая места, где стояли хаты соседей. Вот тут была Сидоренкова, Лучкова. А вот здесь была его…
Полуобгоревший тополь засох. Голые ветки его гнулись, как хлысты, и шуршали под ветром. Печь развалилась, возле нее вырос бурьян. Устин Захарович подошел ближе, раздвинул его. На земле валялись головешки.
Они пахли сыростью и землей. Устину Захаровичу казалось, что от них тянет горьким дымом. Он постоял, зачем-то подгреб сапогом головешки в кучку и пошел к уцелевшим домам. Надо было жить, а жить означало работать.
Председателем колхоза оказался тот самый Юхимов сынок, которого ранило в начале войны. После того он был ранен еще несколько раз, но все-таки уцелел и приехал из госпиталя незадолго до возвращения Устина Захаровича. Он раздался в плечах, возмужал и отпустил усы. Теперь его называли не Степкой или Степаном, как бывало, а Степаном Ефимовичем.
Степан Ефимович шумно обрадовался возвращению "колхозной гвардии", как он сказал, и скомандовал жене "сообразить по такому случаю". На столе появилась бутыль самогона. Еды было не густо, но самогонка из сахарной свеклы уже была.
Степан, позвякивая медалями, рассуждал о том, как он думает поставить «Зарю» на ноги, и подливал в стаканы. Устин Захарович пил и не пьянел. Он только все плотнее сжимал губы. Потом спросил, как думает Степан, живы его Галька и внуки или нет. Степан сказал, что вполне свободная вещь, что и живы. Может, даже и до Германии их не довезли — такое бывало тоже, — а если и довезли, так там же всех освободили и производят репатриацию. "До дому вертают", — пояснил он.
Надо навести справки. Он скоро поедет в город и может все разузнать.
Устин Захарович сам пошел в город. Он был в военкомате, в райисполкоме, даже зачем-то в загсе и наконец попал в милицейский отдел розыска. Молодой белобрысый лейтенант, то и дело одергивая свой китель, записал все и обнадежил:
— Не горюй, дед! Разыщем твоих внуков.
Устин Захарович вернулся в село и начал ждать. Каждую неделю он уходил в город к белобрысому лейтенанту.
— Пока никаких сведений не поступало, — отвечал тот.
Устином Захаровичем овладело беспокойство. Ему начало казаться, что, пока он тут "отлеживает бока", внуки его где-то «бедуют». Их отыщут, а он даже и узнает об этом с опозданием. Следовало быть поближе к отделу розыска, чтобы в любой момент могли сообщить, а он — поехать за своими внуками. Степан и слышать не хотел о том, чтобы отпустить такого работника, убеждал, ругался и даже пробовал грозить, но Устин Захарович стоял на своем.
— Ты пойми, — говорил он, — я не легкой жизни шукаю — душа горит!
Председатель наконец сдался:
— Так разве ж я не понимаю?.. Такое дело!.. Ну, там не заживайся — сам знаешь, нам кадры нужны.
Устин Захарович не думал заживаться. На свое пребывание в городе он смотрел как на временное, жил в углу, работу не выбирал, брался за любую, лишь бы прожить, и за нее не держался. Все это было не главное; главное было — дождаться вестей о внуках. В отделение он ходил, когда только мог, и, "чтобы не мозолить людям глаза", стоял в сторонке и ждал, пока белобрысый лейтенант его заметит. Тот замечал и отрицательно качал головой. В этих молчаливых посещениях лейтенант чувствовал укор себе и розыску, который до сих пор не мог найти никаких следов, и так как укор был справедливым, в нем нарастало раздражение. Однажды он в сердцах сказал:
— И чего ты, дед, ходишь? Сообщат нам — и мы тебе сообщим. А то ходишь и ходишь…
Устин Захарович пожевал губами и вышел. Он понимал, что лейтенант прав, и ходить стал реже.
На улицах он присматривался к ребятишкам, в наивной надежде вдруг наткнуться на своих внуков, хотя и понимал, что здесь их быть не может и что он бы их даже не узнал, так как помнил ползунками, а теперь, если они живы, Сашку было семь лет, а Васе уже восемь.
Поэтому он так легко и прочно прижился в детдоме. Там были дети, они напоминали ему внуков. Сначала он этого боялся, потом оказалось, что без этого не может. Он никогда не был ласковым и приветливым, окружающие не получали от него ясно видимой радости, однако ему самому она все больше была нужна. И он получал ее, скупую, рвущую сердце, слыша звонкие ребячьи голоса, их смех, ссоры и беготню. Нм он отдавал единственное, что имел, — свои неутомимые руки.
Еще за воротами Тарас и Лешка услышали шум.
— Наши из лагеря приехали, — сказал Тарас.
Загорелой босоногой толпой ребята стояли вокруг Людмилы.
Сергеевны, Анастасии Федоровны и Ефимовны. Все говорили и смеялись разом. Тараса и Метеора увидели — шум стал еще громче.