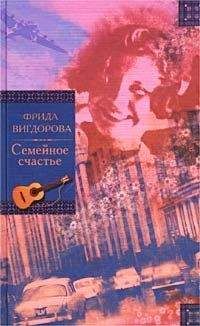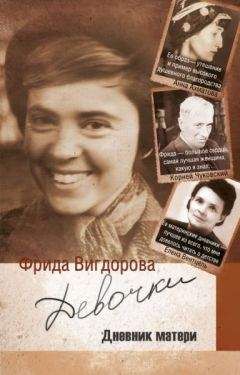И вдруг он услышал радио. Поливанов рассеянно остановился у черной тарелки репродуктора.
- ...Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь...
Поливанов словно врос в перрон, раздавленный этим голосом. Рядом с ним стояли люди, пришедшие на вокзал встречать своих близких. Молодая женщина прижала к груди букет сирени и смотрела на репродуктор, беспомощно приоткрыв рот. "Что же это? - говорило ее лицо. - Как же это?"
- Ма-ам! - тянул мальчишка лет пяти. - Ну, Ма-ам!
Он дергал ее за платье, он становился на цыпочки, чтоб заглянуть ей в лицо, а она смотрела на черную тарелку репродуктора, и лицо ее спрашивало: "Что же это?"
- ...Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами...
Поливанов слушал, опустив голову и крепко сжав губы.
Все так же Саша вставала по утрам, на ходу пила чай и торопливо отводила Аню в детский сад, Аня все так же требовала по дороге:
- Мама, сказку!
Все так же бабушка заставляла Аню выпить в кровати стакан молока.
- Пей! - говорила она. - Пей скорее... А то придет
Гитлер и выпьет твое молоко. А ты, Саша, думай хорошенько - надо Анюту из Москвы увозить.
Бабья паника, отговорки! - думала Саша. Фашисты до Москвы не дойдут, с Аней ничего не случится. И у других матерей дети, однако они не сторожат их, идут на фронт. И она, Саша, пойдет. Это она решила твердо. Она медсестра, и ее место на фронте. Тогда, в финскую, у нее не вышло. Сейчас выйдет. Непременно. Глядя на военных с рюкзаком за плечами, глядя на ополченцев таких штатских даже в военной форме, она думала о том, что вот пришел и ее час. Она уже все решила: Нина Викторовна возьмет Анюту и уедет с нею куда-нибудь далеко - в Саратов или Казань. Или в Бугуруслан. Сейчас многие едут в Бугуруслан. А она, Саша, - на фронт. Ее место там.
Дворники все так же поливали горячий уличный асфальт. Все такие же аккуратно подстриженные лежали газоны у Большого театра. Все так же плыл по воздуху тополиный снег. И деревьям тоже, должно быть, казалось, что все по-прежнему, что ничего не изменилось.
***
А изменилось все. Война была повсюду. Она слышалась в торопливых тяжелых шагах на лестнице. Это мобилизованный четыре дня назад Петька из 18й квартиры спускался по ступенькам в кирзовых сапогах. Большой театр был разрисован какими-то нелепыми домиками: его замаскировали, чтобы спасти от бомбежки. Война глядела окнами, заклеенными крест-накрест бумагой.
Леша давно уехал из Москвы, а Дмитрий Александрович уже надел военную форму - он должен был уехать со дня на день.
Он выглядел совсем иначе, чем прежде. Заграничная кепка, лихо сдвинутая на затылок, и рыжие сандалии, придававшие его шагу какую-то развязность, и замшевая куртка, делавшая его нарядным даже в самые горячие минуты съемок, все исчезло. Выступило все, что уже так хорошо знала Саша: твердость, спокойствие, доброта. Он помог ей заклеить окна, наладил маскировочные шторы, раздобыл фонарик с синей лампочкой. И в один прекрасный день он сказал ей:
- Ну, матушка, вот что: хватайте Аню и уезжайте-ка из Москвы. Я все это обмозгую и на днях вас выпровожу. А вы потихоньку собирайте вещички.
- Видно, мы здорово вам надоели. С нашими окнами, шторами и прочей ерундой.
- Не без того, конечно, - ответил Дмитрий Александрович.
Тускло светила синяя лампочка. Они стояли в подъезде. Саша дежурила, она была в домовой команде ПВХО, а Дмитрий Александрович просто был с ней.
- Граждане, воздушная тревога! - вдруг сказал, чуть придыхая, голос диктора.
Они не двинулись - так диктор говорил каждый вечер, это ничего не значило. Они уже привыкли к тревогам, которые не рождали в них никакой тревоги.
И вдруг:
- Граждане! Граждане! Немедленно спускаться в бомбоубежища! Граждане!
Диктор приказывал, требовал, его нельзя было ослушаться.
- Саша, немедленно бегите за Аней и спускайтесь Я подежурю за вас. Да идите же, слышите! Ну, что вы задумались? Слышите, что вам говорят?
Так Дмитрий Александрович еще никогда не говорил с Сашей. Сердито, строго и властно.
Саша быстро взбежала по лестнице. Почти все двери были уже настежь. Шли женщины с детьми, чемоданами, рюкзаками. Шли, спотыкаясь, окликали друг друга.
А голос требовал, приказывал:
- Немедленно! В бомбоубежище! Граждане!
Саша схватила спящую Аню и спустилась следом за всеми.
В бомбоубежище было тесно. Низкие потолки нависали над головой. Сидеть негде. Кто пристроился на чемодане, кто захватил скамеечку для ног и уселся на нее. Константин Артемьевич постелил для Нины Викторовны пиджак прямо на пол.
- Господи, - сказал старушечий голос, - люди-то ведь-с вещичками... А я... беспамятная, и шубу не захватила.
Раздался смех:
- Да куда тебе шубу? Июль на дворе!
- Не скажи, голубок. Выйдем, стоит ли Москва на месте? Может, все в щепы разнесено!
- Гражданка! - сорвавшимся от гнева голосом сказал Константин Артемьевич. - Не сейте панику! Говорю вам
Как юрист!
Бабушка, которая сеяла панику, неслышно эашамкала беззубым ртом:
- Ты что как грозно? Я вдова. А шуба хорошая. Ты, может. себе еще наживешь, а я...
- Боже мой, - простонала Нина Викторовна, - где-то сейчас Леша?
- Без паники! - прикрикнул Константин Артемьеевич. - твой сын военный!
И только Аня без всякой паники шагала по бомбоубежищу.
В углу сидели два пожилых человека - муж и жена. А рядом собака большая, охотничья. Она сидела послушно, тихо и жалась к хозяину.
Аня подошла к ней, бесстрашно тронула большое ухо. Собака с добродушным презрением скосила глаз в ее сторону.
- В бомбоубежище - дети. А тут с собакой. Тоже люди - собака им дороже человека, - сказала какая-то тетка в платке.
Аня посмотрела на нее с укором.
- Тетя, зачем ты ругаешься? Она ведь не кусается.
- Деточка, отойди, - шепотом сказал хозяин собаки. Но Аня присела на уголок его чемодана.
- Тебя как зовут? - спросила она собаку.
- Карай, - ответил хозяин.
А у тебя дети есть? - спросила Аня собаку.
- Нет, - ответил хозяин.
- А ты меня любишь? - спросила Аня.
- Люблю. Я детей люблю, - ответил за свою собаку хозяин. Он привлек девочку к себе и посадил ее на колени.
Что там наверху? - думала Саша, Выйти бы. Поглядеть. Может, как всегда, ничего особенного. Вот и папа сказал: "Не сейте панику!" Что он там делает один в подъезде? В подъезде ли?
Шли минуты, потом часы. Аня уснула на руках у чужого. Рядом с ней дремала собака.
Как это странно - оказаться тут в подвале и не сметь выйти. Да почему же не сметь? Аня останется с бабушкой и дедушкой, а она, Саша, выйдет: она не станет больше сидеть здесь и ждать.
И вдруг пол дрогнул под ногами. И погас свет. Как бывает ночью, когда молния, вспыхнув, все озарит, так блеснула тьма. Это почуяли даже спящие. Бомбоубежище наполнилось отчаянным женским криком. Заплакали дети. Саша услышала Анин голос:
Мама! Мамочка!
Аня! - крикнула Саша и слепо, отчаянно стала шарить руками по чужим лицам, плечам, спинам.
Граждане! - сказал вдруг по радио ликующий голос. - Отбой! Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!
В бомбоубежище вспыхнул свет. Толпа хлынула к выходу. Кто-то отдавил Саше ноги, кто-то хлестнул по лицу рукавом пиджака, кто-то, пытаясь протиснуться к выходу, с силой толкнул ее, а остальные, шедшие следом, придавили к стене. Она стояла, уже не пытаясь шевельнуться, и только повторяла:
- Анюта! Анюта!
- Держите свою Анюту! - говорит хозяин Карая. Да, вот она. Лицо залито слезами, руки протянуты. Вот
Она - у Сашиных губ ее щека, шея, соленые глаза. Крепко обхватив девочку, Саша стоит у стены. Если она сейчас увидит Поливанова, все будет хорошо.
Дмитрий Александрович ждал у порога бомбоубежища.
- Саша! Аня! - голос его срывался. Саша благодарно прижалась к его плечу.
- Ну, полно, полно! Слава Богу, все хорошо.
- Это я за вас, за вас... Я боялась...
- А я тут! - ответил он весело и снова добавил:
- Все хорошо, глупая вы девочка. Успокойтесь!
- Эй, бабка! Где ты? - кричал веселый молодой голос. - Москва ничего, стоит!
Москва стояла на месте. А их двор был усыпан стеклом парных разбитых окон. Каштан обугленный, почерневший, беспомощный - опустил изуродованные ветки.
В квартире были сорваны двери, выбиты оконные рамы, пол усыпан штукатуркой, осколками. На столе по-прежнему стоял чайник. В хлебнице рядом с хлебом лежало стекло. Колбаса и сыр были присыпаны стеклом. Стекло хрустело под ногами.
- Ну, - сказал Дмитрий Александрович, - завтра же, завтра вон из Москвы!
- Нет, я на фронт, а мама с Аней в эвакуацию.
Нина Викторовна сидела, беспомощно уронив на стол руки, из глаз ее катились слезы.
- Нет, - сказала она, - мы с папой останемся здесь. А тебе с ребенком надо уезжать.
Была бы ты родная, поехала бы, - подумала Саша. Впервые в жизни она подумала так. Подумала и устыдилась. И снова повторила себе: "была бы она родная..."